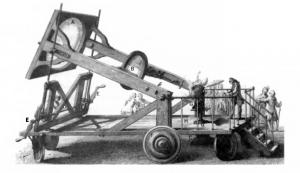Глобальный аутсорсинг
Представьте себе: однажды вы узнаёте, что специалисты вашего интернет-провайдера, к которым вы время от времени обращаетесь по телефону за поддержкой, живут и работают не только в другом городе, но вообще в другой стране! Скажем, в Узбекистане, в Таджикистане или в Монголии. Словом, там, где могут знать русский язык и недорого берут за свою работу. Лично я пока не в курсе, нанимают ли российские компании сотрудников своих колл-центров в странах ближнего зарубежья, однако хорошо известно, что такую практику давно уже освоили американцы, подряжая для аналогичных целей зарубежных специалистов.
О том, как современные информационные технологии «убивают» расстояния между странами и континентами, прекрасно проиллюстрировал известный американский журналист Томас Фридман в своем бестселлере «Плоский мир: краткая история XXI века». У нас в стране, к сожалению, пока еще не оценили по-настоящему масштаб перемен, вызванных повальной компьютеризацией и созданием совершенных средств связи (включая, конечно же, и Интернет). Однако новая реальность уже вторгается в жизнь американских граждан, причем, с разных сторон. Возможно, простому обывателю, «терзающему» по телефону консультанта известной компании, без разницы, где находится этот специалист – хоть в соседнем доме, хоть на другом континенте. А вот американскому специалисту уже не так комфортно, ибо благодаря новым средствам связи у него появились многочисленные и вполне реальные иностранные конкуренты, способные посягнуть на его рабочее место. Нет, жители Средней Азии в их число пока что не входят. Зато Индия и Китай стали теми странами, где уже сейчас полным-полно молодых амбициозных спецов, готовых потеснить на рынке труда своих американских коллег.
Допустим, вы живете в Америке и вам нужен толковый ассистент, который бы оперативно готовил для вас презентации. Где его искать – в своем городе, в своей стране или где-нибудь за границей?
Раньше в таких делах заграница была бесполезной, но в эпоху повальной цифровизации всё радикально поменялось. Теперь идеальным вариантом для выполнения подобной работы становится Индия. Причина проста: в то время, когда вы отходите ко сну, в этой стране как раз начинается рабочий день, и пока вы спите, ваш ассистент делает для вас свою работу.
К утру по электронной почте вы уже получаете готовую презентацию. Как отмечает Томас Фридман, в Индии готовят неплохих специалистов в самых разных областях (включаю и область информационных технологий). По своему характеру индийцы уравновешенны, дружелюбны и старательны. Но главное – за свою работу они берут как минимум раза в четыре меньше, чем американцы. Расстояние же, как мы сказали, в эпоху Интернета перестает играть какую-либо роль. Поэтому все выгоды от такого аутсорсинга для работодателя налицо.
В одном месте автор приводит весьма красноречивый факт: «Я только что узнал, что, оказывается, в довольно многих американских больницах рентгенологи поручают обработку снимков компьютерной томографии своим коллегам в Индии и в Австралии!!!
 Все это, очевидно, происходит ночью (может быть, и на выходных), то есть, когда в больнице не хватает персонала, чтобы справиться собственными силами. Некоторые группы рентгенологов, используя телерадиологию, отсылают снимки к себе домой (и, наверное, сразу в Вэйл и Кейп-Код), чтобы иметь к ним круглосуточный доступ и ставить диагнозы безостановочно. Более мелкие больницы, я так понял, отправляют снимки за рубеж». По мнению автора, преимущество этих операций состоит в том, что «когда у нас ночь, в Австралии или Индии – день, а значит, во внеурочные часы со снимками легче работать, пересылая их в другую часть света. Снимки компьютерной (а также и магнитно-резонансной) томографии выходят уже в оцифрованном формате и могут быть переданы по Сети по стандартным протоколам, поэтому ничто не мешает расшифровывать их в любой точке земного шара…».
Все это, очевидно, происходит ночью (может быть, и на выходных), то есть, когда в больнице не хватает персонала, чтобы справиться собственными силами. Некоторые группы рентгенологов, используя телерадиологию, отсылают снимки к себе домой (и, наверное, сразу в Вэйл и Кейп-Код), чтобы иметь к ним круглосуточный доступ и ставить диагнозы безостановочно. Более мелкие больницы, я так понял, отправляют снимки за рубеж». По мнению автора, преимущество этих операций состоит в том, что «когда у нас ночь, в Австралии или Индии – день, а значит, во внеурочные часы со снимками легче работать, пересылая их в другую часть света. Снимки компьютерной (а также и магнитно-резонансной) томографии выходят уже в оцифрованном формате и могут быть переданы по Сети по стандартным протоколам, поэтому ничто не мешает расшифровывать их в любой точке земного шара…».
Томас Фридман уделяет особое внимание Индии, поскольку именно эта страна исправно «поставляет» специалистов для заокеанских работодателей. Самое интересное, что сами индусы прекрасно осознают эту глобальную тенденцию и совершенно сознательно и целенаправленно предлагают западным компаниям свои услуги, за умеренную плату выполняя ту интеллектуальную работу, которая на Западе уже не считается престижной (вроде той же обработки снимков или составления презентаций). Скажем, известные американские компании создают в Бангалоре свои колл-центры для обслуживания американских же клиентов. Так получается дешевле. Клиенты никакой разницы не чувствуют, поскольку сотрудники-индийцы отличаются не только завидной выдержкой – они прекрасно владеют английским языком и представляются американскими именами. Мало того, в отличие от своих американских коллег, им нравится такая работа, не вызывающая у них никаких тяжелых моральных переживаний из-за своей «непрестижности».
Таким образом, современные коммуникации серьезно обостряют конкуренцию между квалифицированными специалистами, особенно в тех областях, где слишком много рутинных и стандартных операций.
То есть, вам уже приходится конкурировать не только с жителями вашего города или поселка – теперь на ваше рабочее место может претендовать человек из любой точки планеты. В выигрыше, естественно, находятся развивающиеся страны, образованные жители которых неожиданно получили новое окно возможностей для своего трудоустройства.
Лет двадцать назад что-либо подобное было еще сложно вообразить. Теперь же глобальный аутсорсинг становится не просто случайной практикой отдельных компаний – он начинает формировать принципиально новые социально-экономические реалии. Недаром Томас Фридман связал данное явление с новой эпохой глобализации, когда обостряется конкурентная борьба не столько между государствами и компаниями, сколько между отдельно взятыми индивидами.
Примечательно, что набор профессий, предполагающих дистанционную работу в межконтинентальном масштабе, постоянно расширяется. Так, информационное агентство «Рейтерс» настолько далеко продвинулось в этом деле, что даже распространило аутсорсинг на обработку новостной цепочки, наняв для такой работы индийских сотрудников. Как пишет Томас Фридман, причины чисто финансового характера заставили эту компанию задаться вопросом: где необходимо разместить людей, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение новостями своей глобальной сети? В итоге было принято решение передать всю работу по выпуску экстренных новостей (где требуется скорость и точность, но не требуется никакой аналитики, никаких размышлений и иной интеллектуальной работы) низкооплачиваемым индийским сотрудникам. Говоря по-простому, агентство наняло для этой рутины (отражающей базовый уровень журналистики) неприхотливых азиатских «интернет-гастарбайтеров». Как высказался по этому поводу исполнительный директор «Рейтерс» Томас Глоусер, «Индия — роскошное место для нанимателей, не только в плане технических навыков местной рабочей силы, но и в плане финансовом». Так, зарплата и стоимость аренды офиса в индийском Бангалоре (где как раз и работают «внештатники» агентства) составляют лишь пятую часть от своих аналогов в западных столицах.
Впрочем, базовый уровень – не предел. На аутсорсинг стали переводить и аналитическую работу, особенно после того, как выяснилось, что высокооплачиваемые американские рыночные аналитики оказались ангажированными, подстраивая результаты под интересы конкретных компаний. Спрашивается, есть ли смысл поручать им работу, да еще за приличную сумму? Для сравнения: такой же аналитик в Бангалоре обходился нанимателю в 15 тысяч долларов в год – против 80 тысяч в Нью-Йорке или в Лондоне.
Наконец, следом за журналистикой и рыночной аналитикой идет наука, которую аутсорсинг также не обошел стороной. Обработка рентгеновских снимков и компьютерной томографии – такой же базовый уровень, как в журналистике – формирование новостной цепочки.
Следом идут более сложные вычисления и конкретная исследовательская работа. По сути, нет никаких препятствий к тому, чтобы заключать договоры с научными организациями в третьих странах (в той же Индии), где полным-полно квалифицированных специалистов, готовых за скромную плату (по американским меркам) выполнять вполне достойную квалифицированную работу на научном поприще. Такие прецеденты давно уже создаются, и Индия находится здесь в первом ряду.
Вообще, как показывает практика, руководителей наиболее «продвинутых» компаний такой формат трудовых отношений ничуть не смущает. Разбивать рабочий процесс на составные части и нанимать сотрудников для их реализации в разных уголках планеты – в наш век информационных технологий становится вполне нормальной формой организации труда. Красноречивый пример – создание анимационного сериала, когда сценарий пишется где-нибудь в Сан-Франциско, а раскадровку (то есть рутинную часть работы) передают в Бангалор. Но, пожалуй, самым главным, принципиальным моментом является сам принцип взаимодействия участников процесса: любой из них может через Сеть (причем, не важно, откуда – из офиса или прямо из своего дома) выйти на связь с коллегами и обсудить ход работы, сделать замечания, внести изменения и т.д. Традиционный принцип руководства, когда босс выстраивает сотрудников в шеренгу и дает им ценные указания, уже уходит в лету.
Как справедливо заметил Томас Фридман, благодаря информационным технологиям наш мир начал «выравниваться». То есть речь идет не просто об увеличении производительности труда (как до сих пор принято думать). Речь идет о зарождении принципиально новых отношений между творческими людьми, включая отношения между рабочими и работодателями. Пожалуй, это станет одним из главных итогов разворачивающейся на наших глазах цифровизации.
Олег Носков
- Подробнее о Глобальный аутсорсинг
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии