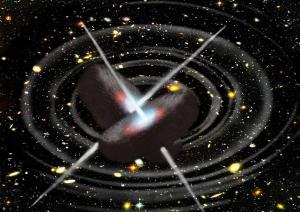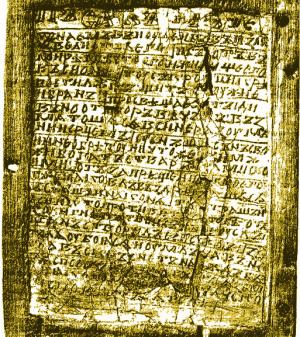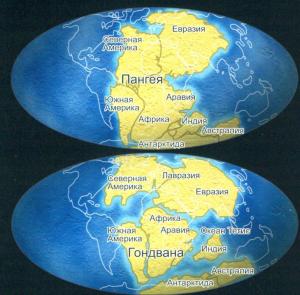Хроники третьего «Слета просветителей»
Просветители и государство
В России есть живая экосистема популяризаторов и просветителей. На ее развитие сильно влияет государственная политика через профильные ведомства вроде Академии наук, Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, Министерства здравоохранения, госкорпораций и институтов развития. Иногда взаимодействие с ними бывает удачным, но чаще обе стороны недовольны друг другом, потому что между ними существует ряд противоречий. Как их преодолеть? Это стало темой панельной дискуссии «Государство и сообщество популяризаторов: большие иллюзии или большие возможности?». В ней участвовали вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов; член-корреспондент РАН, зав. лабораторией внегалактической радиоастрономии Астрокосмического центра ФИАН и лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ Юрий Ковалев; профессор РАН, вед. науч. сотр. ГАИШ МГУ Сергей Попов; канд. биол. наук, вед. науч. сотр. Института биофизики СО РАН, руководитель группы научных коммуникаций Красноярского научного центра СО РАН Егор Задереев; генеральный директор Ассоциации Science Slam Россия Арина Пушкина. Итоги дискуссии подводит ее модератор, научный обозреватель ОТР Ольга Орлова.
Ситуация противоречивая. С одной стороны, площадки университетов, академических институтов и школ — это государственные ресурсы. Большинство ученых, студентов и педагогов, которые занимаются просветительской деятельностью, получают зарплату из госбюджета. С другой стороны — взаимодействие с чиновниками обрастает всё бо́льшими сложностями и рисками. Поэтому многие популяризаторы предпочитают следовать принципу «если можешь обойтись без государства, обойди его».
Краудфандинговая модель финансирования, личные связи с предпринимателями, безвозмездная помощь коллег и волонтеров, развитие цифровых технологий позволяют самому сделать ролик, договориться о бесплатной площадке в кафе и решить многие другие проблемы, с которыми раньше сдавались на милость начальству.
Тем не менее никакой масштабный проект, особенно если он рассчитан на школьный возраст, без взаимодействия с властью сегодня невозможен, это понимают все. В исследовательских институтах, вузах и школах пропускные режимы, поэтому без согласования со службами безопасности и департаментами никакая массовая просветительская акция не проходит. Игнорировать бюрократию и жить в параллельном мире не получается, даже если очень хочется.
Делегаты «Слета» отмечали, что во многих регионах местные министерства науки и образования не разделены, и у чиновников нет указаний популяризировать науку, а повышать патриотическое и нравственное воспитание есть. Им также выгоднее отчитаться за участие в федеральном мероприятии вроде Всероссийского фестиваля «Наука 0+», не поддерживая местный фестиваль науки.
Кроме региональных особенностей (а ситуация в Красноярске и Краснодаре, как описывали участники дискуссии, разная), есть и общие проблемы — законодательные ограничения по возможностям бюджетной поддержки, предоставления помещений, крайняя неоперативность реагирования и негибкость в принятии решений, множественные согласования… Сергей Попов привел такой характерный пример: к нему обратились представители мидовской организации Россотрудничество с просьбой прочитать бесплатно цикл лекций в разных странах, так как в почти сотне стран имеются представительства Россотрудничества — Русские дома. После того, как ученый согласился, чиновники предложили ему самостоятельно оформить для себя обычную туристическую визу (с перспективой долго объясняться при въезде в чужую страну, какова же истинная цель его поездки).
В последние годы появился еще один тревожный симптом. Клерикализация и политизация власти на всех уровнях приводит к тому, что идеологические взгляды участников «научных боев», лекторов или научных журналистов становятся важны, когда госструктуры решают вопрос о поддержке того или иного проекта или конкретного просветителя. Лояльность к действующей власти конкретного популяризатора становится лакмусовой бумажкой, после которой либо следует одобрение, либо нет. Это заметно, когда речь идет о награждении премиями или допуске к большой аудитории.
Самое обидное, что среди участников дискуссии не было ни одного чиновника в чистом виде, потому что вице-президент РАН Алексей Хохлов сам не только представляет Академию, но и много лет организует университетский фестиваль «Наука 0+», поэтому все возможности ограничения государственных органов знает не хуже остальных участников «Слета». А чиновников, которые бы не имели отношения к науке и с кем обычно и возникают наибольшие проблемы при реализации проектов, на «Слет» как раз зазвать не удалось — ни представители Миннауки, ни Минздрава не откликнулись на приглашение организаторов. Поэтому всё свелось к тому, что с государством дело иметь не хочется, а нужно. И единственный способ это делать — искать Homo sapiens среди чиновников и взаимодействовать лично с ними. А это задача локальная. И как ее решать, каждый думает сам.
Мы же в России живем…
 Егор Задереев, канд. биол. наук, вед. научн. сотр. Красноярского научного центра СО РАН:
Егор Задереев, канд. биол. наук, вед. научн. сотр. Красноярского научного центра СО РАН:
В субботу в Москве прошел третий «Слет просветителей». На первом, два года назад, я был. Прошлогодний, запомнившийся многим эпическим вбросом Виктора Вахштайна, — пропустил. Что запомнилось, понравилось/не понравилось в этот раз.
Стартовая дискуссия о взаимодействии популяризаторов с государством, в которой, собственно говоря, и я принимал участие. До начала дискуссии в закрытом чате спикеров всплыл расхожий лозунг: «Главное, что должно делать государство, — не мешать просветителям». Впрочем, в первой же реплике Сергей Попов этот лозунг в каком-то смысле дезавуировал: «Государство так или иначе задействовано во всех просветительских активностях, если на вашем мероприятии выступает спикер, то его труд чаще всего был оплачен государством. Да и сам „Слет“ проходит в „Точке кипения“ Агентства стратегических инициатив, а все институты развития — это государство».
Формально единственным представителем государственных институций был вице-президент РАН Алексей Хохлов. Так что во многом круглый стол свелся к дискуссии, что может дать популяризаторам Академия наук и что они могут получить от нее.
Не могу сказать, что участникам удалось прийти к какой-то внятной повестке. Предложения Алексея Ремовича использовать площадки Академии, а также писать письма в поддержку популяризаторов большого энтузиазма не вызвали. С другой стороны, а чего другого стоит ждать просветителям от Академии? Институты РАН живут своей независимой жизнью — бюджет идет из министерства, каждый руководитель волен сам решать как ему/ей расходовать средства. Если РАН получит дополнительные средства на популяризацию, которая войдет в госзадание Академии, тогда можно рассчитывать на какие-то понятные активности — производство контента, офлайн- или онлайн-акции.
 Вопрос, как это будет организовано. Вряд ли Академия наук сможет создавать площадки, которые будут конкурировать по форме, да и по содержанию с уже существующими. Остается внешний заказ. В этой ситуации — мы же в России живем — будет очень важно выстроить какую-то внятную долгосрочную линию и избежать коррупции. Разовые «закупки» популяризаторских услуг могут оказаться бессистемными, а конкурсы можно делать так, что деньги получат «нужные» люди. В общем, деньги на популяризацию по факту — новая головная боль для Академии. Рынок форматов и услуг настолько развит, что аккуратно встроиться в него будет сложно.
Вопрос, как это будет организовано. Вряд ли Академия наук сможет создавать площадки, которые будут конкурировать по форме, да и по содержанию с уже существующими. Остается внешний заказ. В этой ситуации — мы же в России живем — будет очень важно выстроить какую-то внятную долгосрочную линию и избежать коррупции. Разовые «закупки» популяризаторских услуг могут оказаться бессистемными, а конкурсы можно делать так, что деньги получат «нужные» люди. В общем, деньги на популяризацию по факту — новая головная боль для Академии. Рынок форматов и услуг настолько развит, что аккуратно встроиться в него будет сложно.
Из других, общих впечатлений. «Слету» (а скорее всему сообществу) не хватает методологической базы. За последние несколько лет научная коммуникация в России стала профессиональной сферой деятельности. В ИТМО открылась магистратура по научной коммуникации, в ВШЭ ведутся сильные социологические исследования. Профессиональный исследовательский блок в программе «Слета» практически не был представлен.
Запомнилась серия коротких десятиминутных выступлений об удачах/неудачах просветителей за прошлый год. Лучший плюс — Василий Ключарёв из ВШЭ как эксперт на ТВ-шоу «Удивительные люди». «Лучший» минус — проект «Пинта науки» и их неуклюжий заход в регионы без учета местной специфики.
Финальную дискуссию дня «Убеждения и вера: как мы выбираем мишени?» переварить было сложно. 12 часов в душном помещении давали о себе знать. Стоит отметить высказывания Александра Сергеева об этической стороне просвещения: «Мы хотим менять установки людей, тем самым берем на себя право решать, что с нашими установками их жизнь станет лучше, но это не очевидное утверждение».
С мыслями о том, что всего должно быть в меру, в том числе и желания сделать этот мир лучше, участники двинули на after-party.
Не могу не отметить титаническую работу организаторов. В целом всё было на высоте — от системы регистрации (хоть она и сбила многих с толку) до детальных разъяснений в почтовых рассылках, что, где, куда и как. Спасибо! Надеюсь, через год у сообщества просветителей будет очередной «Слет».
Этот отзыв был опубликован в «Фейсбуке» и получил несколько содержательных комментариев. Приводим самые интересные и важные.
Нина Садыкова: Может, я не права, но от РАН (и как организации, и как профессионального сообщества) «популяризаторы» ждут отнюдь не площадок или создания собственных просветительских проектов и даже не писем поддержки (хотя они могут быть локально полезны), а научной экспертизы существующих проектов и какой-то стратегической методической поддержки для институтов: провести открытую ревизию ассоциированных с институтами просветительских проектов, выявить те практики, которые реально работают, выпустить и озвучить на Общем собрании методические рекомендации (не директивы, боже упаси) для научных организаций, сформулировать и сделать доступной хотя бы для институтов (а лучше для всех) коммуникационную стратегию РАН. Не это ли работа для вновь созданной комиссии? Уж точно не самим идти лекции читать или сайты делать.
Виталий Егоров: Господдержка популяризации целесообразна только в отношении научной деятельности со стороны участников этой деятельности. То есть платить надо не популяризаторам, а ученым, чтобы они занимались популяризацией. Банально сделать популяризацию легитимной и штатной деятельностью ученого, а не хобби.
Борис Долгин: В целом согласен, но научком — как и любая практическая сфера — будет всегда иметь сопоставимую ценность наблюдений инсайдеров и исследований профессионалов в неких дисциплинах. В этом смысле социолог науки Катерина Губа и практик Пётр Талантов были вполне сопоставимо ценны.
Наличие магистратуры — дело важное и хорошее, но и ее программу и конкретные навыки, преподаваемые там, нужно апробировать в профессиональном сообществе. И подобные программы подготовки всегда будут лишь одним из источников пути в профессионалы.
Площадка для самозанятых?
Александр Сергеев, научный журналист, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой:
На третий год «Слет просветителей», организуемый фондом «Эволюция», более или менее определился со своей нишей — это внутренняя конференция-тусовка для сообщества людей, которые занимаются популяризацией науки в формате волонтерства, самозанятости или стартапов, т. е. как личным, а не институциализированным проектом. Площадка «Слета» дает участникам ежегодное место для знакомства, обмена опытом и рефлексии своей деятельности.
Наиболее важной в этот раз была первая экспертная панель о взаимоотношениях вольных популяризаторов с государством и РАН. Правда, важность ее носила специфической характер, поскольку для большинства присутствующих вряд ли прозвучало что-то новое. Однако в качестве одного из экспертов был приглашен вице-президент РАН А. Р. Хохлов, на днях возглавивший новоучрежденную Комиссию РАН по популяризации науки. На «Слете» он в течение двух часов был экспонирован под живой идейный и эмоциональный фон просветительского сообщества. Думаю, экспертам и слушателям удалось в его лице донести до РАН тот месседж, который в начале лета на рановском круглом столе с популяризаторами практически утонул в потоке саморекламы крупных проектов. Стало также понятно, что Академия пока не знает, как ей взаимодействовать с неформализованным просветительским сообществом.
Наиболее интересными и ценными для участников были те выступления, в которых люди делились лично выстраданным опытом. Я бы особо отметил мастер-класс Аси Казанцевой по написанию научно-популярных книг и доклад Петра Талантова о негативных аспектах пропаганды науки. В то же время были выступления (особенно из числа коротких), которые смотрелись как что-то среднее между саморекламой и отчетным докладом. На некоторых мероприятиях (в частности, в заключительной панельной дискуссии об этике популяризации) отчетливо чувствовалась попытка дать ответ на возмущение, вызванное в сообществе докладом Виктора Вахштайна на прошлогоднем «Слете». Хотя элементы этого ответа явно созревают, в целом он еще не сложился, и, возможно, поэтому «Слету» несколько недоставало яркости и провокационности.
Технически «Слет» организован просто на ура — очень четко и в то же время ненавязчиво. Однако в содержательном плане ему еще есть куда расти. Надеюсь, что к следующему году градус дискуссии удастся поднять. При этом было бы очень здорово придумать, как «Слету» занять позицию над конфликтами и расколами, сотрясающими последнее время научно-популярное поле. Также, возможно, было бы полезно, чтобы площадка «Слета» вышла за рамки поучительных докладов и дискуссий и стала своего рода ярмаркой идей с перспективой рекрутинга авторов в развивающиеся проекты. Это могло бы открыть перед «Слетом» новые перспективы.
Ворчуны и «борцуны»
 Максим Борисов, выпускающий редактор ТрВ-Наука:
Максим Борисов, выпускающий редактор ТрВ-Наука:
«Что остается, когда съедена банка варенья? Что останется, когда спета песня?» От «Слета просветителей» осталось много фоточек и головная боль: как раскрутить коллег на публичные, но при этом содержательные отзывы?
Не все из нас большие поклонники всяких мероприятий, да мы всё больше за компьютерами, каждый на своей жердочке, но многие «приобщенные» смогли хотя бы пролетом побывать на всех трех «эволюционных слетах» за три года. Про первый рассказывать было проще — благодаря его несомненной новизне; второй не давал о себе забыть сразу из-за занятных скандальчиков, третий до такой же скандальности, увы, не дорос, и вот уже спустя неделю респонденты от отзывов увиливают — эх, надо было «брать быка за рога» прямо в день «Слета», как и поступили авторы ролика от «Архэ» (кстати, всячески советуем посмотреть).
Пожалуй, еще в первые приезды появилась мысль, что организаторы всерьез стараются привить какую-то новую модель объединяющего мероприятия, направленного не на аморфную внешнюю массовую аудиторию мирных слушателей и не на сугубо внутренний междусобойчик-фуршет для избранных. Здесь нечто иное, когда пропуском в сообщество служит готовность тратить свои силы не некие возвышенные общеполезные действия (или хотя бы на какое-то время проникнуться всеми этими идеями и обещать себе, что с понедельника примкнешь к «сообществу просветителей»).
Странность тут в довольно сложном (испытываемом мной лично) чувстве — какая-то неловкость за излишнюю специализированность и «некрылатость» — в данном случае занятия всего лишь редактора и новостника, так сказать, «встроенного в процесс винтика», — сомнительный пропуск в крылатое сообщество с эмблемы. Такие чувствуют себя чужими на этом празднике «мастер-классов», когда даже не приходит в голову то, что всем этим вдохновенным людям (в числе которых и доктора наук, и студенты), — ринуться куда-то в провинцию, чтобы что-то там затевать, организовывать, выступать, нести свет…
Зачем же являться на такие тусовки? Лекции можно послушать и в записи, вопросы задать через «Фейсбук»… Очевидно, всё это для того, чтобы с кем-то «развиртуалиться», а с кем-то уже хорошо знакомым почирикать (отковыряв его от других страждущих) — с кем не назначишь простой встречи, тем более, если человек прибыл издалека, подгадав вот к такому-то событию.
…А пока «спикеры», не моргнув глазом, вводят в оборот новые «птичьи» словечки, и все сразу с готовностью повторяют вслед за ними, не морщась: «кейс-сессии», «дискуссионные панели», «нетворкинг» — и я уж не говорю о только-только начавших перевариваться где-то внутри наших желудков «научных коммуникаторах». Чувство приобщения, свои игры, да…
Первая панельная дискуссия вроде бы «чиркнула» по какому-то краю («ездить за рубеж за государственный счет, чтобы посмотреть шпили…») и не без изящной издевки (всё ж тут наши чудо-лекторы и ведущие-профессионалы) ушла в нужное безопасное русло — «кровь ушла в землю, там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья»: люди и государство — братья-сестры, все мы немножко государственники, и настоящего Просвещения (как и Науки — у нас, по крайней мере) без государства не бывает. Ну, понаскакивали еще для порядка на простодушно подставившегося вице-президента РАН Алексея Хохлова — и тут же выпустили из когтей, почти и не потрепанного. Все мы всё понимаем, и подними белый лист бумаги — всё, что нужно, «коммуникаторы» сами прочтут.
На этом «разбор полетов», конечно, не закончится. И если прежде «слетались» на несколько дней, то теперь на один, не менее насыщенный, — даже его отсидеть с непривычки сложно. Кто-то перелетает еще куда-то, кто-то, наоборот, прибывает, еще полный сил и интереса. Самые мудрые либо залетают меньше чем на час, либо появляются в разных временных промежутках, разделенных часами небытия, — в Москве еще какие-то важные мероприятия.
В последний момент, со всеми уже распрощавшись, вдруг задерживаюсь на мастер-класс Аси Казанцевой, которая «птенчиков» учит тому, как издать свою первую научно-популярную книгу. Ей поддакивает из первых рядов Павел Подкосов из «Альпины». Про себя думаю, что про издание книг и прочего должен знать достаточно — со всех сторон этого процесса, — но всё же остаюсь за компанию с другими и узнаю-таки нечто новое: начинающему автору проще встроиться в какую-то активно развиваемую издательством серию… Задумался.
А вот о чем я задумался уже по дороге домой. Кто-то весьма метко заметил: «Список френдов состоит из тех, с кем пока не успел поссориться». Во времена Интернета приходится учиться новому искусству: ругаться и спорить без злобы, так, чтобы не разбежаться навсегда и бесповоротно по разным краям виртуального пространства. В «реале» люди как-то еще мирятся даже после того, как начистят друг другу рыло, — встречаются в подъездах и на улицах, трутся спинами в транспорте или в курилках.
В Интернете, конечно, гораздо проще избегать «токсичных» людей — и это правильная тактика, разумеется, еще с ними можно и вовсе не ссориться, заранее разбегаться при первых позывах устроить хорошую свару, стерев написанные было в чате буквы…
Тем временем «тусовка» на том же «Слете», как и в самом Интернете, кажется, становится мало-помалу всё более монохромной — от кого-то уже даже не ждешь, что еще раз появится…
Теперь, как мнится, не только государство, но и заматеревшие «просветители» начинают сторониться полезных когда-то «борцунов», чувствуют, как веет от них неприкаянностью. Скажем, истории со списанными диссертациями или гомеопатами — те еще «кейсы», когда для РАН «токсичным борцуном» может оказаться собственная комиссия…
Казалось, мы сами не такие, но вот уже коллеги на «панели» синхронно качают головами: дурно, мол, заниматься «борьбой», хорошее дело «борьбой» не назовут… Стая улетит — и останешься крайним, коготок-то застрял.
А по-моему, прекрасно, когда люди такие разные, не только по убеждениям, но и по темпераменту. Кто-то получает искреннее удовольствие от адреналина в крови, у кого-то даже победа не в радость из-за конфликта и сочувствия к проигравшему. Нужно лишь поддерживать друг друга, не стричь всех под одну гребенку. Пусть каждый подбирает дело себе по плечу и по темпераменту. Кто-то просвещает, кто-то книги издает, кто-то борется.
Неоконченная приветственная речь
Борис Штерн, главред ТрВ-Наука:
Мне выпало приветствовать участников «Слета просветителей» от имени совета фонда «Эволюция». Вслух сказано примерно следующее:
Этот «Слет» состоялся благодаря краудфандингу, благодаря многим людям, внесшим свою скромную лепту. Кроме того, фонд «Эволюция» получил небольшой президентский грант, а также, как и многие хорошие начинания, был поддержан Дмитрием Борисовичем Зиминым. В этом зале многие тем или иным образом получили его поддержку, а наш «Троицкий вариант» без нее вообще не выжил бы, так что поблагодарим Дмитрия Борисовича еще раз. Но без поддержки множества добровольцев «Слет» всё равно бы не состоялся. Добровольцы поддержали форум волонтеров — это правильно. Волонтерские движения — это то, из чего может здесь в наше время вырасти нормальное будущее. Лично я надеюсь только на это. Главное, чтобы движение просветителей и дальше оставалось волонтерским. Я имею в виду не финансовый аспект, а стиль, дух. Главное — не превращаться в ремесленников.
Что не было сказано? За что мы боремся? Меня приводят в уныние мечты о тиражах и огромной аудитории. Всё равно никто из нас по этим параметрам не сможет тягаться с Донцовой и условным Малаховым. Если наша цель — повлиять на среду обитания, сделать ее чуть более вменяемой, рациональной и человечной, надо задвинуть подальше всяческую конъюнктуру и PR-приемы. Главный вопрос: нам есть, что сказать нового и своего? На этот вопрос каждый отвечает сам для себя. Я думаю, если наука вызывает у человека удивление и восхищение, то он в конце концов найдет, что сказать, и научится говорить. Только с таким подходом движение просветителей сможет стать культурным явлением, влияющим на жизнь в далекой перспективе.
- Подробнее о Хроники третьего «Слета просветителей»
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии