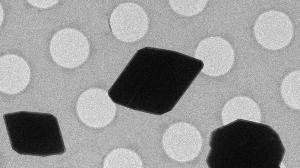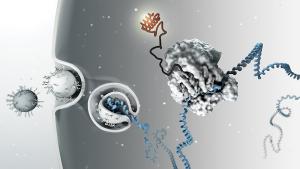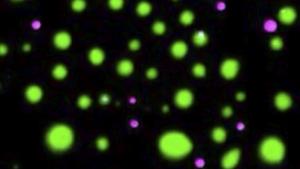«Решая одну задачу, мы продвигаемся к следующей»
Наверное, почти каждый новосибирец слышал про клинику Мешалкина – место, где высококлассные врачи делают сложнейшие операции на сердце. Несколько меньше людей знают, что «клиника» на самом деле – Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) им. ак. Е.Н. Мешалкина. И спектр его работы не ограничивается одной кардиохирургией. Например, в центре есть нейрохирургическое отделение, и сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с его заведующим – к.м.н. Павлом Сёминым.
– Павел Александрович, как давно и почему образовано ваше отделение?
– Открытие отделения стало частью стратегии развития Центра, которую продвигает его руководитель Александр Михайлович Караськов. В результате, мы имеем уже не только специализированный институт, который занимается проблемами сердца, а многопрофильный исследовательский центр, где исследования ведут сразу в нескольких направлениях: кардиохирургия, нейрохирургия и лечение онкологических заболеваний. Это была замечательная идея. Потому что мы страдаем от разных болезней, которые часто проявляются связанно. И здорово, когда специалисты разного профиля работают в коллаборации, а пациент может получить комплексную помощь в стенах одного медицинского центра. Это заметно сберегает время и силы пациента, что является важным фактором успешного лечения. Работа в этом направлении началась в 2008-2009 годах, а в 2012 году была проведена международная конференция, на которую съехались ведущие нейрохирурги со всего мира. Они показывали свои результаты и одновременно убедились, что в НМИЦ им. Мешалкина нейрохирургия представлена на высоком уровне.
– А как набирали команду врачей для нейрохирургического отделения?
– Поначалу основу команды составили врачи, перешедшие сюда из Нейрохирургического центра Железнодорожной больницы Новосибирска под руководством профессора Алексей Леонидовича Кривошапкина. Ну и постепенно этот коллектив дополнялся новыми специалистами из разных клиник страны. К примеру, из Петербурга переехал Кирилл Юрьевич Орлов, сейчас он возглавляет наш Центр ангионеврологии и нейрохирургии и успешно развивает эндоваскулярную нейрохирургию. В итоге, сейчас в этом направлении мы лидеры в России и представляем Российский опыт хирургии на международном уровне.
– Можно подробнее, что это такое?
– Так называют хирургические вмешательства, проводимые на кровеносных сосудах под контролем методов лучевой визуализации с использованием специальных инструментов.
Особенность такого метода лечения заключается в том, что все вмешательства производятся без разреза кожи, через небольшие проколы под рентгеновским контролем в рентгеноперационной.
– Статус исследовательского центра подразумевает, что в его стенах ведется не только врачебная, но научная работа. К нейрохирургии это относится?
– В полном объеме. Все, кто тут работают, в то же время участвуют в научных исследованиях. На основе клинической практики мы проводим научные изыскания, а их результаты затем также внедряются в клинику. Получается взаимосвязанный непрерывный процесс, когда мы, решая одну задачу, продвигаемся к следующей.
– А над какими исследовательскими задачами в области нейрохирургии Вы с коллегами работаете в настоящее время?
– Их довольно много, разделенных на несколько направлений. Я уже говорил про эндоваскулярную нейрохирургию. Кирилл Юрьевич и его коллеги участвуют в ряде международных исследовательских проектов, направленных на поиск новых технологий проведения операций на сосудах головного мозга – аневризмы, мальформации, фистулы и т.п. Это достаточно распространенные заболевания, которые мы сегодня эффективно лечим эндоваскулярным способом.
Другое важное направление – нейрофункциональная хирургия, речь о лечении различных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, двигательные нарушения, которые проявляются в разного рода навязчивых телодвижениях (так называемой, дистонии) и эпилепсия. Консервативное лечение таких заболеваний часто не эффективно, поэтому выбирается хирургическая тактика лечения. Один из способов лечения – высокоточное погружение специальных стимуляторов прямо в ядра мозга. Еще этот метод называют глубинная стимуляция подкорковых ядер. И поскольку это достаточно новый подход, в его рамках тоже есть масса возможностей для развития – как проводить операции более точно, более быстро, более безопасно для пациента. Вот этими вопросами мы и занимаемся.
Мы занимаемся хирургическим лечением хронической боли при различных хронических заболеваниях – опять же с помощью имплантации нейромодулирующих систем, которые изменяют сигнал боли, и мозг перестает ее воспринимать как таковую. То есть, меняем качество жизни человеку без наркотиков или других сильных обезболивающих препаратов.
Также мы единственный медицинский центр в России, где проводится малоинвазивное лечение критических нарушений кровообращения нижних конечностей и сердца с использованием различных современных систем нейромодуляции.
Ну и, конечно же, нейроонкология, лечение опухолей головного мозга. Современный стандарт – максимально удалить всю опухоль и дальше вести лечение путем химио-лучевой или таргетной терапии. И, как я говорил, весь цикл лечения проходит в стенах одного медицинского центра, при тесном взаимодействии лечащих врачей. Это важно для получения положительного результата лечения. Сейчас нейроонкология молодеет, число молодых пациентов просто катастрофически растет.
– Распространенность онкозаболеваний в целом растет. Как по-Вашему, когда диагноз «злокачественная опухоль мозга» перестанет звучать для большинства как приговор?
– Современный способ лечения злокачественных опухолей позволяет незначительно увеличить срок жизни, но не остановить заболевание на длительное время. Лучевая терапия опухолей проводится у нас в центре в полном объеме с использованием высокоточного наведения. Если говорить о химиотерапии, то в этом виде лечения нет значимого сдвига в нейроонкологии с 2005 года.
Стало очевидным, что дальнейший прорыв возможен, если воздействовать на молекулярном уровне на различные механизмы бесконтрольного деления клетки и противоопухолевого иммунитета. Возможности нейрохирургии в этом направлении лимитированы только безопасным для пациента максимальным удалением того, что выросло.
 – Регулярно появляются новости об уникальных операциях, которые проводят специалисты Вашего центра. Но они не в силах вылечить всех пациентов страны. Вы проводите какую-то работу по внедрению своих разработок в другие медучреждения?
– Регулярно появляются новости об уникальных операциях, которые проводят специалисты Вашего центра. Но они не в силах вылечить всех пациентов страны. Вы проводите какую-то работу по внедрению своих разработок в другие медучреждения?
– Во-первых, у нас в стране достаточно много хороших нейрохирургических центров. Это дает пациенту возможность выбора клиники и не остаться без своевременной помощи. И я думаю, что в масштабах страны какого-то глобального дефицита именно в нейрохирургической помощи нет. Так и должно быть, потому что во многих ситуациях, например, когда речь идет о злокачественной опухоли мозга, нельзя отложить операцию «до лучших времен», ее надо делать как можно быстрее. Кроме того, мы постоянно ведем работу с нашими коллегами из других больниц – в течение года у нас работают различные мастер-классы, на которые приезжают нейрохирурги со всей страны. Тут они могут не просто ознакомиться с нашими разработками, новыми материалами, но и научиться работать со всем этим в экспериментальной лаборатории. Ежегодно через такую практику проходят сотни специалистов. Так что работа по внедрению передовых достижений нейрохирургии ведется достаточно системно.
– А может в перспективе нейрохирурга заменить робот?
– Роботы подразумевают некие типовые действия, по заранее заданному алгоритму. В нейрохирургии есть тренды на индивидуализацию операций и возможность помощи робота-ассистента. К примеру, в хирургии методом keyhole («замочной скважины»), когда операцию на каком-то участке мозга проводят через очень маленький доступ, используя небольшой разрез на брови или другом участке головы. Здесь в каждом случае необходимо индивидуально решать, где будет точка доступа, какой будет трек у хирургических инструментов и так далее. И в каждой операции участвует обязательно два нейрохирурга. Роботизированные системы в перспективе могут быть хорошим ассистентом, они не устают, не нервничают, у них не «дрогнет рука». Такие системы сейчас хорошо применяются в спинальной хирургии, где надо точно подвести и закрутить винт в тело позвонка или в высокоточном проведении микроэлектродов в глубинные отделы мозга.
Но, когда мы говорим про открытые операции на головном мозге, там нужно учитывать много нюансов и ситуация во время операции может очень быстро и радикально меняться. По крайней мере, в ближайшем будущем робот не сможет полностью заменить в операционной врача-человека.
– Какой должна быть мотивация у молодого врача, чтобы стать высококлассным нейрохирургом?
– Мотивация у каждого своя. В основном, идут в нейрохирургию потому, что это очень интересно. Но надо быть готовым к долгой и тяжелой подготовительной работе. По моему мнению, необходимо минимум девять-десять лет интенсивной практики, прежде чем нейрохирург сможет безопасно для пациента самостоятельно проводить сложные операции. И в то же время надо быть достаточно амбициозным, не бояться решать крайне сложные задачи. Операция на мозге – это еще и внутренний вызов себе.
– А уже потом, в операционной, эти амбиции играют свою роль? Вообще, какие эмоции, по Вашему опыту, испытывает врач во время сложнейшей операции?
– Все эмоции и амбиции остаются за порогом операционной. Это как раз показатель профессионализма. Ты просто делаешь свою работу и весь сосредоточен на кончике инструмента. Во время операции я даже не замечаю, в какой позе сижу или стою. В какой-то момент работы я понимаю, что полулежу на операционном кресле, рука несколько часов висит в воздухе с инструментом, и плечо начинают болеть. Но некогда прерываться, и продолжаешь работать. Все эмоции, рефлексии будут потом, когда операция закончена.
Георгий Батухтин
- Подробнее о «Решая одну задачу, мы продвигаемся к следующей»
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии