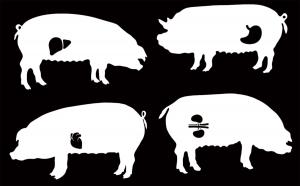Русская выхухоль, или хохуля, всего столетие назад была одним из самых привычных обитателей европейской части России. В 1957 был полностью запрещен промысел выхухоли, а в 1986 году она была включена в Красную книгу как вид, находящийся под полной угрозой исчезновения. Трудность сохранения вида состоит в том, что не удается получить потомство в неволе. И все же усилиями ученых и сотрудников национальных парков и биосферных заповедников поголовье выхухоли растет.
Александр Рогуленко, старший научный сотрудник национального парка «Угра» в Калужской области — один из немногих людей, кто видел реликтовое млекопитающее, русскую выхухоль, не на картинке. По осени, надев сапоги-болотники или костюм-забродник, он отправляется вести учет редчайших зверьков, которые уже более 40 лет занесены в Красную книгу. Ученый ходит по мелководью и «сканирует» ногами дно — считает подводные выходы норок. По количеству таких жилищ на единицу площади берега можно вывести примерную численность выхухолей для каждого водоема.
В неволе живет, но не размножается
«На латыни этот вид называется Desmana moschata, но между собой мы ласково зовем ее “хохуля”», — говорит Александр.
Русская выхухоль когда-то обитала на огромном пространстве от Урала до Западной Европы (там есть родственный вид — выхухоль пиренейская). Сейчас обнаружить следы хохули за пределами заповедников и национальных парков практически невозможно. По подсчетам зоологов, в современной России насчитывается всего около 6 тысяч этих животных.
Выхухоль веками истребляли ради мускусной железы. Животное ведет полуводный образ жизни, плохо видит, и в воде запаховые метки служат ей основным средством коммуникации. Мускус русской выхухоли раньше продавали парфюмерам во Францию, а в быту просто перекладывали отрубленными хвостами одежду для ароматизации. Добыча выхухолей процветала в Российской империи вплоть до начала XX века.
«Что касается Калужской области, то в 1950-х в заготовительную контору в Сухиничах была сдана одна шкурка выхухоли, но где ее добыли — неизвестно, еще двоих выхухолей в озерах под Козельском отмечал тогда же исследователь Агеев. До этого свидетельств ее обитания у нас в Калужской области не было», — рассказывает Александр.
«Хохуля», от «выхухоль», — вонючий, пахучий, или от «хахаль» — волокита, смешной щеголь, раздушенный» (словарь Даля). А «выхухоль» образовано посредством приставки «вы» и слова «хухоля», образованного, в свою очередь, от несохранившегося глагола «хухать» («вонять»), родственного чеш. chuchati — дуть, нем. hauchen — пахнуть.
Слово «выхухоль» в современном русском языке относится к редким двуродовым существительным, то есть может склоняться и как существительное женского рода, и как существительное мужского рода.
Еще в довоенные годы в стране было создано два заповедника, где занимались сохранением выхухоли, — Хоперский и Окский. Оттуда уже во второй половине прошлого века животных начали расселять в другие регионы страны: ученые выпускали зверьков в подходящие водоемы от Белоруссии до Казахстана, в том числе в 1959—1960 гг. подселили пару сотен выхухолей в два озера по реке Жиздре на территории нынешнего национального парка «Угра».
«Трудность сохранения вида состоит в том, что не удается получить потомство в неволе, — продолжает Рогуленко. — Разводить их в разное время пытались и в виварии Хоперского заповедника, и в Московском зоопарке, и в наши дни — в ИПЭЭ РАН в Черноголовке. В созданных условиях они неплохо себя чувствуют. Им подобрали рацион, но вот как «организовать» размножение, ученые пока не придумали. Предполагается, что в природе этот механизм запускает весенний паводок».
Полный запрет на промысел, введенный с 1957 года, и активные действия по расселению выхухоли безусловно поддержали ее популяцию, однако гидростроительство, коренным образом меняющее водный баланс на огромных территориях, осушительная мелиорация, интенсивная вырубка водосборных лесов послужили причиной либо полного уничтожения, либо угнетенного состояния множества очагов обитания выхухоли. Таким образом, несмотря на все природоохранные мероприятия, проводимые в СССР, численность выхухоли стремительно сокращалась и к середине 1980-х составляла всего 40 тыс. особей. Появление дешевых рыболовных сетей из синтетической лески и отсутствие контроля природоохранных органов на малых водоемах в постсоветский период сделало выхухолей частыми жертвами рыболовов-браконьеров.
После распада Советского Союза программа по расселению выхухоли остались без внимания и без финансирования. Когда в 1997 году был образован национальный парк «Угра», калужским хранителям природы вновь пришлось начинать с малого — тогда фиксировались единичные встречи с редким животным. Их насчитывалось всего 80 особей. В ходе последней «переписи» — уже 310—340 зверьков.
Ну-ка, покажи мне свой нос
«Нос выхухоли похож на хобот, им она копошится в иле, ищет моллюсков, улиток и прочих беспозвоночных», — объясняет причины экзотической внешности зверька Александр.
Сейчас на водной системе Жиздры стоит лед, но русская выхухоль не спит. У нее очень быстрый обмен веществ: днем и ночью, каждые три-четыре часа ей надо питаться, искать моллюсков.
В «Угре» редкому виду больше всего полюбилась пойма реки Жиздры — от города Козельска и до впадения в Оку. Это одно из красивейших в России мест, где расположены знаменитые монастыри Оптина Пустынь и Шамордино. Русло реки Жиздры петляет здесь как горный серпантин, местность покрыта густой сетью озер-стариц: мелких, где выхухоль кормится, и глубоких, в которые перебирается на зиму, — идеальные условия. Всего по Жиздре насчитывается почти две сотни подходящих для обитания вида водоемов и водоемчиков.
«Cейчас встретить выхухоль — большая удача. Когда у нас будет хорошая популяция, наверное, зверька можно будет увидеть, хотя бы как он нос из воды высовывает. А пока самая многочисленная в России группировка выхухолей обитает в Рязанской области под контролем сотрудников Окского биосферного заповедника».
Специальной экотропы по местам обитания выхухоли в «Угре» пока не создавалось, но гулять самостоятельно и надеяться на встречу с хохулей закон любителям природы не возбраняет. В отличие от заповедников, свободный доступ в которые ограничен, «Угра» — национальный парк (и то и другое относится к особо охраняемым природным территориям, ООПТ). Его статус предполагает свободное посещение природных пространств (за исключением небольших заповедных зон) любыми визитерами: туристами, паломниками, просто людьми, которые едут в гости к жителям местных деревень. Площадь национального парка около 100 тысяч га, что составляет более 3% Калужской области.
«Люди могут посещать нас, смотреть, ходить по нашим экотропам. Рыбу удочкой ловить — пожалуйста. Нужно только получить разрешение на пребывание в дирекции, визит-центре в Калуге, в наших лесничествах на местах... или его электронный вариант на сайте национального парка. А вот желающие посидеть у костра и переночевать в палатке — в основном это байдарочники или автомобилисты — могут останавливаться только на оборудованных стоянках в строго отведенных местах, там обустроены комфортные условия для пикника. Мы следим, чтобы были дрова, убираем мусор и за это берем деньги (100 руб./день с человека — прим. ред.)», — говорит Людмила Жданова, заместитель директора ФГБУ «Национальный парк "Угра"» по экологическому просвещению, туризму и рекреации.
Выхухоль как бренд
В сувенирной лавке визит-центра национального парка «Угра» в историческом центре Калуги выхухоли посвящен не только сюжет в экспозиции, но и целая линейка сувениров. Символом-логотипом парка зверек не является, но его образ стараются тиражировать. Симпатичное существо с хоботом смотрит с маек, открыток, представлено в виде брошек, керамических фигурок.
«Дети сейчас очень много знают о животных Африки или динозаврах и очень мало — о тех, кто живет рядом с нами. Мы специально заказали художнику акварели с изображениями животных парка, в том числе и с выхухолью — стараемся ее популяризировать», — рассказывает Людмила Жданова.
Визит-центр открылся в калужских Гостиных рядах полтора года назад. Администрация Калужской области выделила в оперативное управление нацпарку помещение в памятнике архитектуры XVIII века, а Минприроды РФ — средства на его ремонт и создание экспозиции («Угра» — ООПТ федерального значения). Саму экспозицию разработали и изготовили специалисты Уральского регионального института музейных проектов в Екатеринбурге. Она интерактивная и контактная — в «Угре» своим эколого-просветительским объектом очень гордятся.
«Электроника в просветительских целях работает хуже, редко кто из посетителей у экранов с презентациями стоит. По моим наблюдениям, людям больше нравится потрогать, подвигать. В отличие от музеев, у нас все это делать можно», — поясняет Людмила Жданова.
Сам национальный парк «Угра» уникален тем, что он единственный в России — долинного типа. Его территория сильно вытянута вдоль двух рек — Жиздры и Угры, пересекает почти всю Калужскую область и разнообразна с точки зрения ландшафтов. Объект для управления очень сложный: в границах парка расположено 64 населенных пункта, большая часть участков в которых давно выкуплена у местного населения московскими и калужскими дачниками, а также около 30 дворянских усадеб, в основном руинированных, более 20 исторических храмов.
«Самый главный наш бич сейчас — это даже не браконьерство, а незаконная застройка. Каждый ведь хочет жить на высоком красивом берегу. Уже были случаи сноса через суд», — делится своими тревогами замдиректора.
Русская выхухоль — один из неофициальных брендов парка наряду с древним святилищем Чертово городище, лесами-засеками, зубрами, светящимся мхом шистостегой и Великим стоянием на Угре 1480 г. Кроме того, на территории «Угры» сохранилось большое количество укреплений времен Великой Отечественной войны — окопы, блиндажи, землянки. В ходе тематических экскурсий гости погружаются в подлинную атмосферу театра боевых действий.
Травяной чай для добровольцев
Специалистов по выхухоли в стране единицы. В Окском заповеднике и в Черноголовке к ее спасению привлекают даже студентов и аспирантов — такие команды проводят полевой учет в разных регионах страны. Но сил, конечно, мало, и идея во многом держится на энтузиазме.
В «Угре» из ученых-специалистов хохулей тоже занимается один Александр Рогуленко. По образованию он зооинженер, закончил РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и в первый же год после выпуска устроился на работу в нацпарк «Угра» научным сотрудником. Сейчас он уже кандидат биологических наук и занимается в нацпарке далеко не только выхухолью, но и всеми другими редкими, да и не редкими животными.
Вести перепись выхухолей Александру помогает команда волонтеров экологического клуба Stenus, сотрудники и учащиеся Калужского областного эколого-биологического центра, студенты КГУ им. Циолковского и просто неравнодушные граждане. Обычно достаточно 8-10 человек. Но добровольцы в национальном парке помогают не только с сезонным учетом популяций. Так, в «Угре» уже много лет развивают корпоративное волонтерство: работодатели с удовольствием организуют своих сотрудников на полезный для природы тимбилдинг в одном из самых живописных мест страны. Гости сажают деревья, участвуют в оборудовании экотроп.
«Крупные компании сами на нас выходят, некоторые приезжают уже несколько лет подряд, и местные, и из Москвы. Кому-то в благодарность табличка нужна, кому-то хочется привлечь внимание СМИ, а некоторым в ответ ничего не надо. Но добровольцы реально оказывают нам огромную помощь. Мы с удовольствием вручаем им грамоты, благодарности, угощаем нашим собственным чаем, травяным», — рассказывает Людмила Жданова.
***
Уже через несколько месяцев, когда Жиздра выйдет из берегов, у выхухолей начнется брачный период, а к маю-июню в подземных норках появятся детеныши. Потом они выроют собственные жилища. А осенью входы в эти жилища снова осторожно пересчитают чьи-то резиновые сапоги.