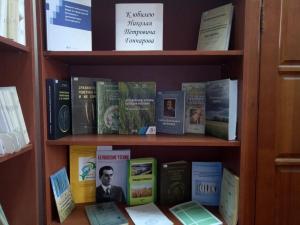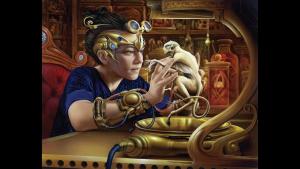Так назывался доклад академика РАН Николая Петровича Гончарова на научном семинаре в Институте цитологии и генетики СО РАН, который был приурочен к его 60-летию. За плечами Николая Петровича больше четырех десятилетий научной работы и большая ее часть связана с ИЦиГ СО РАН, куда он пришел в 1978 году, будучи еще студентом НГУ – сначала делать диплом под руководством Ольги Ивановны Майстренко, затем - на должность стажера-исследователя. Сегодня он главный научный сотрудник сектора генетики пшениц. О некоторых событиях этого большого, достойного уважения пути – в нашем интервью с юбиляром.
– Ваши родители - Пётр Лазаревич и Антонина Васильевна - селекционеры по профессии. Можно сказать, что направление Вашей будущей профессии было предопределено со школьной скамьи?
– Сложно сказать. В начальной школе я хотел стать археологом. Однако в определенной степени помешали проблемы со зрением. Конечно, влияние родителей все же сказалось на выборе профессии. Им, как селекционерам, в работе порой не хватало информации о наследовании тех или иных признаков и, глядя на их нелегкую работу, меня посещали мысли о том, что хорошо бы с помощью генетики помочь селекционерам методологически. Известно, что селекционеры в своей работе используют законы наследственности, вскрытые генетикой, генетики, в свою очередь, черпают в селекции данные для обобщения. Поэтому сотрудничество взаимовыгодное. Подчеркну, селекция – это синтез науки и искусства и это очень тяжелая работа, при любых погодных условиях: в жару, в дождь, в снег, на полях год за годом селекционер идет к созданию новых сортов.
– Как получилось, что дипломную работу Вы готовили, работая в ИЦиГ, а в аспирантуру поступили в Ленинград, во Всесоюзный институт растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР)?
– На тот момент ВИР располагал самой большой в мире коллекцией возделываемых растений, в том числе – видов пшеницы и ее диких сородичей. Еще сохранялись и передавались богатые традиции всестороннего изучения биоразнообразия возделываемых растений. В силу этого, в ВИРе было больше возможностей для научной работы в этом направлении.
– Что было темой Вашей кандидатской диссертации?
–В начале 1980-х гг. мой научный руководитель – профессор Анатолий Федорович Мережко - вернулся в ВИР из СИММИТ (исп. - Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) в Мексике после стажировки у нобелевского лауреата Нормана Борлауга, который был «отцом» так называемой «зеленой революции». Напомню, так называют комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, произошедших в 1940-х–1970-х годах, и обусловивших значительное увеличение мировой растениеводческой продукции. В 1968 г. эти изменения были названы «зелёной революцией», для того, чтобы отличить их от других судьбоносных событий ХХ века, а именно, от «красной революции» в России и «белой революции» в Иране. «Зеленая революция», обусловившая кратное увеличение валовых сборов пшеницы в странах третьего мира, опиралась на три признака: нечувствительность к длине дня (фотопериоду), короткостебельность и продуктивность, обусловленную отзывчивостью на высокие дозы минеральных удобрений. А.Ф. Мережко привез из Мексики много генетического материала, который по-разному отзывался на длину дня. На тот период времени данный признак был слабо изучен генетически и работе с ним, с отечественными сортами и с мировым генофондом мягкой пшеницы и была посвящена моя кандидатская диссертация «Генетический контроль фотопериодической реакции у мягкой пшеницы в связи с селекцией на скороспелость».
– После аспирантуры Вы вернулись в Академгородок. Не было соблазна остаться в Ленинграде?
– Нет, в Новосибирске представлялось больше возможности для всесторонней работы с пшеницей. Под Ленинградом климат значительно хуже, чем в Сибири: лето не явно выраженное, дождей много, т.е. с точки зрения произрастания пшеницы - это не самый подходящий регион. Не случайно Н.И. Вавилов не рекомендовал помещать в коллекцию на длительное хранение зерно, выращенное на экспериментальных полях ВИР в Пушкине и Павловске. Поэтому при подготовке диссертации мне часть работ приходилось вести на юге страны - на Дагестанской опытной станции ВИР (г. Дербент).
– А Сибирь получается – хорошее место для выращивания пшеницы?
 – До революции Сибирь была в состоянии обеспечить хлебом не только себя, но и значительную часть населения европейской части Российской Империи, поскольку в то время у нас в стране озимый клин был довольно незначительный и разница в урожайности между озимыми и яровыми пшеницами была не столь разительной, как сейчас. Ситуацию поменяло то, что отечественные селекционеры за последнее столетие сделали уникальный рывок, создав сорта, которые при любой технологии выращивания дают стабильный урожай. В том числе они создали зимостойкие сорта озимой пшеницы, с внедрением в производство которых резко выросла их урожайность в европейской части страны. Кроме того, агроклиматический потенциал там изначально был значительно выше, чем в Сибири. Отмечу, что многие сибирские территории из-за своих агроклиматических условий не пригодны для успешного возделывания в больших объемах озимых пшениц.
– До революции Сибирь была в состоянии обеспечить хлебом не только себя, но и значительную часть населения европейской части Российской Империи, поскольку в то время у нас в стране озимый клин был довольно незначительный и разница в урожайности между озимыми и яровыми пшеницами была не столь разительной, как сейчас. Ситуацию поменяло то, что отечественные селекционеры за последнее столетие сделали уникальный рывок, создав сорта, которые при любой технологии выращивания дают стабильный урожай. В том числе они создали зимостойкие сорта озимой пшеницы, с внедрением в производство которых резко выросла их урожайность в европейской части страны. Кроме того, агроклиматический потенциал там изначально был значительно выше, чем в Сибири. Отмечу, что многие сибирские территории из-за своих агроклиматических условий не пригодны для успешного возделывания в больших объемах озимых пшениц.
– Главным объектом Ваших научных интересов была только пшеница?
– Да, её генетика, систематика, происхождение и доместикация. Это очень важный объект, т.к. пшеница является третьей по значению зерновой культурой в мировой экономике, после риса и кукурузы, а в нашей стране – вообще главной. И работая с ней, всегда можно решать актуальные научные проблемы, как прикладного, так и фундаментального характера.
– Что для Вас было более важным – экспедиции или работа в лаборатории?
– Всегда очень сложно определить, что является более важным. Могу с уверенностью сказать, что без адекватно и тщательно подобранного материала хорошую работу не сделать, сколь мощным и современным не было бы оборудование. Регулярные экспедиции в центры происхождения, разнообразия и доместикации возделываемых растений – залог успешных полевых и лабораторных исследований. Повторные экспедиции через десятки лет позволяют проводить мониторинг биоразнообразия определенных территорий.
– Тем не менее, не все Ваши коллеги так активно ездят в экспедиции.
– Думаю, это связано с тем, что у экспедиционной работы есть своя определенная специфика, это работа не из самых простых, требует определенных навыков и склада характера. К тому же, так сложилось, что дикие пшеницы и дикие сородичи пшениц очень часто растут в регионах с неспокойной политической обстановкой.
– Что Вы относите к своим наиболее важным результатом?
– Прежде всего, это создание новой таксономии рода Triticum L, которая включает 29 видов, разделенных на пять секций. Это серьезный фундаментальный результат. Дополнительно к этому – сравнительная генетика рода, его филогения, происхождение, доместикация – это база для ее всестороннего изучения. В отличие от предыдущей ВИРовской системы рода, которая создана под руководством академика ВАСХНИЛ В.Ф. Дорофеева сотрудниками ВИР, в нашей системе рода мы отказались от его деления на подроды. Мы показали, что для такого деления нет достаточных оснований. Следует отметить еще одно важное новшество – в предложенную мной систему включены все искусственно созданные (рукотворные) виды. Это позволит хранить их в генетических банках, и они не потеряются для человечества.
– А если отметить прикладные результаты?
– Я бы отнес к таким результатам геногеографию генов, контролирующих тип развития (яровость-озимость, гены Vrn) и реакцию на фотопериод (гены Ppd); это. знание, которое позволяет вести селекцию на определенную, конкретно заданную длину вегетационного периода. Иначе говоря, создавать сорта, которые созревают в четко заданные сроки. Селекция на изменение длины вегетационного периода - это достаточно универсальный механизм, и он становится сейчас как никогда востребованным. Климат меняется, и сегодня никто не может точно предсказать, во что, в итоге выльются эти изменения. Поэтому важно иметь инструмент для изменения сроков созревания у сортов зерновых, созданных для разных географических и почвенно-климатических зон. У каждой зоны есть свои наборы болезней, вредителей и другие, характерные только им особенности, соответственно, и наборы сортов для каждой эколого-географической зоны нужны свои, со специфическими характеристиками. А возможность поменять сроки созревания – это страховка на случай изменения климата в том или ином регионе. Из этого следует важный результат –сбор и эффективное сохранение биоразнообразия, т.е. создание коллекции, которой сейчас располагает сектор генетики пшениц ИЦиГ СО РАН. Конечно, существует известная на весь мир ВИРовская коллекция, начало которой положено еще предшественниками Н.И. Вавилова на посту руководителя данным учреждением – Р.Э. Регелем и академиком РАН (позже ее вице-президентом и академиком АН СССР) И.П. Бородиным. Наша уникальная коллекция довольно большая и сегодня активно используется в работе. К сожалению, в условиях недофинансирования коллекция ВИР начинает сдавать свои позиции и нам нужны запасные варианты. В общем, диверсификация - как модно нынче говорить.
– Про археологию уже во взрослом возрасте не вспоминали?
– Почему же. Ведь доместикация пшеницы тесно связана с древней историей человечества. Одна из гипотез происхождения возделываемых растений гласит, что первый хлеб стали выпекать жрецы в храмах, как замену человеческим жертвоприношениям. И многие наши экспедиции в районы происхождения пшениц проходили в местах, которые считают древними очагами зарождения нашей цивилизации. Так что археологический аспект в какой-то степени проявился и в моей работе, по крайней мере, в экспедиционной ее части.
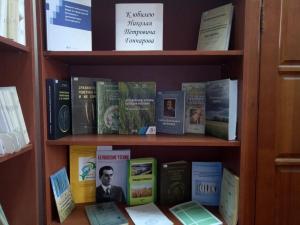 – Насколько я знаю, Вы немало времени посвятили и истории генетики и селекции?
– Насколько я знаю, Вы немало времени посвятили и истории генетики и селекции?
– Это уже точно никак не связано с археологией, скорее – это определение своего места в науке, где и чем ты занимаешься. Я говорил, что много работал по вопросам биоразнообразия, а наиболее последовательным исследователем в этой области в мире был Н.И. Вавилов. И вполне логичным стало желание более углубленно изучить его работы, посмотреть, что и где он изучал, куда и с какой целью ездил, что осталось недоделанным и т. д. Это помогает определенным образом мобилизовать и структурировать свою работу. В итоге – вылилось в отдельную книгу, посвященную его научному наследию.
– У Вас были работы, посвященные научному творчеству других известных ученых?
– Да, были еще несколько монографий и больших обзорных статей. В последнее время, например, были сравнительно проанализированы уникальные работы селекционера Ивана Владимировича Мичурина и его коллеги по отделенной гибридизации генетика Георгия Дмитриевича Карпеченко. Имя Мичурина традиционно связывают с Т.Д, Лысенко. Мы с коллегами попытались показать, что это не совсем правильный подход. Дело в том, что, когда создавалось «мичуринское учение», И.В. Мичурина уже не было в живых и надо в определенной степени разделять наследие самого Мичурина и «мичуринское учение», созданное его апологетами на злобу дня. Довольно долгое время я занимался изучением работ нашего, пожалуй, самого выдающего селекционера советского времени – члена-корреспондента АН СССР Виктора Викторовича Таланова. Около трети посевных площадей в середине 1930-х годов в СССР занимали сорта яровой мягкой пшеницы, созданные им. Он же организовал систему госприемки новых сортов, которая и сегодня существует в виде Госсортосети. Судьба его сложилась трагически и до хрущёвской оттепели о нем ничего не писали. Да, и позже то же очень редко. Было очень интересно, проанализировать и, одновременно, проследить, каким образом создавалась система сравнительного сортоизучения еще земскими агрономами Имперской России, в том числе и самим В.В. Талановым, насколько она была эффективна. Потому что в 1920-1930-е годы – это период резкого изменения системы ведения сельского хозяйства страны, от преимущественно маленьких индивидуальных хозяйств к крупным промышленным сельскохозяйственным предприятиям - колхозам и совхозам, многие из которых были типичные, как бы мы их сейчас назвали, агрохолдингами. Для них понадобился свой ассортимент сортов, что дало сильный импульс развитию селекции, понадобились новые материалы для селекционной работы, завоз в страну всего, что только было возможно с последующими попытками это вырастить, что обеспечивалось, прежде всего, экспедициями Н.И. Вавилова и его сотрудников. Потребовалось разработать систему (независимую государственную экспертизу), которая четко и довольно жестко определяла бы, подходит сорт для нужд те или иных зон, для тех или иных хозяйств или нет, которую и создал Таланов.
- Вернемся к названию Вашего доклада. Почему «под землей»?
В НГУ в 1970-2000-е годы существовала мощная Спелеологическая секция, созданная будущим академиком АН СССР, основателем Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (р. п. Кольцово, НСО) Львом Степановичем Сандахчиевым. Спортивная спелеология была не только отдыхом, но и школой «выживания» в экстремальных условиях. Красота естественных храмов природы – пещер сочеталась с туристической романтикой и участием в спортивных соревнованиях. В том числе, и высшей категории сложности.
– Пару слов о планах. Чем хотелось бы заниматься?
– В наше время стало сложно что-то планировать. Хотелось бы, чтобы пшеница стала если не модельным, то хотя бы объектом, с которым было бы приятно и удобно работать. Для этого есть все возможности. Род Пшениц имеет три уровня плоидности - ди-, тетра- и гексаплоидный. В нем есть дикие, доместицированные и искусственно созданные виды. Так что пшеница не только хлеб наш насущный, но и замечательная модель для биологических и молекулярно-генетических исследований.
Георгий Батухтин