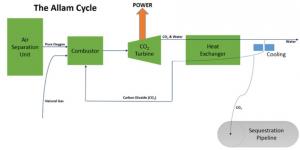Жидкий водород с Красной планеты
Если могущество России, по предвидению Михаила Ломоносова, стало произрастать Сибирью, то могущество земной цивилизации будет произрастать… Марсом. Эту мысль высказал в развернутой научной публикации доктор Массачусетского университета в Лоуэлле Михаил Шубов (Mikhail Shubov). Свое предложение об использовании Красной планеты в деле покорения космического пространства ученый сопроводил массой детальных расчетов, что само по себе вызывает доверие к выстроенной им концепции.
Ключевым пунктом представленной программы является идея создания марсианских фабрик по массовому производству жидкого водорода в интересах экономики грядущей космической цивилизации. Собственно, колонизация Марса, по мнению доктора Шубова, должна с самого начала предполагать решение именно этой основополагающей задачи. В принципе, потенциальных применений марсианской колонии достаточно много. Это может быть и научно-исследовательская база, и площадка по добыче полезных ископаемых, а также – в крайнем варианте – «запасной» дом для землян (в случае больших проблем на нашей планете). Однако при этом Марс может стать источником принципиально важного и самого ценного элемента «космической» экономики будущего – водорода. В своей статье доктор Шубов как раз обсуждает возможность создания на Марсе колонии, производящей жидкий водород – с последующей доставкой его на низкую околоземную орбиту (НОО).
Почему именно водороду уделяется такое повышенное внимание? Водород, утверждает доктор Шубов, является наилучшим топливом для использования в космических аппаратах. Массовое производство этого топлива в процессе колонизации Красной планеты является ключом к колонизации всей Солнечной системы, считает ученый. По его расчетам, технически развития колония на Марсе может производить и доставлять к Земле как минимум миллион тонн жидкого водорода в год. Фактически, она должна стать гигантской водородной фабрикой, обеспечивающей топливом всю внутреннюю часть Солнечной системы. Заниматься таким производством здесь начнут только после того, как колония вырастет до значительных размеров.
Ученый даже попытался вычислить общий объем капитальных затрат для этого дела. По его словам, на создание марсианской водородной фабрики уйдет порядка 20 миллионов тонн стали и три миллиона тонн пластика. Всё это будет использоваться в конструкциях. Для обеспечения работы этого гигантского предприятия понадобится несколько тысяч космонавтов и как минимум 45 ГВт электрической энергии. Только при таких масштабах, считает доктор Шубов, уместно говорить о значении марсианской колонии для колонизации всей Солнечной системы. До этого времени месторождения водорода будут разрабатывать на полярных участках Луны, и доставлять его на околоземную орбиту первоначально начнут оттуда.
В своей статье доктор Шубов последовательно описывает все операции, связанные с доставкой жидкого водорода с Марса к Земле. На низкой околоземной орбите может быть обустроено сразу несколько складов. Как мы сказали, в год сюда будет доставляться не менее миллиона тонн жидкого водорода. Процесс доставки должна заключать как минимум четыре этапа. Вначале контейнеры с топливом будут «выбрасываться» с поверхности Марса на марсианскую орбиту высотой около 400 километров. Затем в дело вступает специальный космический аппарат-перевозчик, который выходит за пределы марсианской орбиты и выводится на траекторию, ведущую к Земле. Далее это транспортное средство подходит очень близко к нашей планете, используя для торможения двигатели. С его помощью топливо попадает на склады, расположенные на дальней космической станции. И уже отсюда топливо доставляется на низкую околоземную орбиту с помощью специального авиалайнера, летящего по очень вытянутой эллиптической траектории и использующего для торможения земную атмосферу.
Весьма интересны в данном контексте рассуждения доктора Шубова о выводе груза на марсианскую орбиту. На его взгляд, использовать для этой цели ракеты будет слишком дорого и нерационально. Вместо ракет он предлагает использовать специальный электромагнитный линейный ускоритель (наподобие рельсовой пушки), который будет построен на горе Олимп. Такая технология, утверждает ученый, теоретически и экспериментально изучена уже более века. В настоящее время подобные системы используются в поездах на магнитной подушке. В Токио, например, таким способом приводятся в движение поезда на линии метро Toei Oedo. Строительство такой системы на горе Олимп позволит резко нарастить грузоперевозки с Марса на Землю, считает доктор Шубов. Это позволит примерно в семь раз сократить затраты в сравнении с тем вариантом, при котором используются ракеты.
Не менее интересна и аргументация ученого в пользу того, чтобы использовать поверхность Марса для строительства основной фабрики по массовому производству водорода. В самом деле, почему именно Красная планета является наиболее подходящим местом для выполнения указанной роли? Дело в том, полагает доктор Шубов, что, несмотря на широкую распространенность водорода как химического элемента, к нему намного труднее получить доступ в иных областях Солнечной системы. Скажем, водорода очень много на Юпитере (и даже на Солнце). Однако извлекать его оттуда нерентабельно из-за высокой гравитации. Что касается маленьких космических тел вроде астероидов, то они содержат слишком мало воды в качестве источника водорода, чтобы удовлетворить потребности растущей космической цивилизации. И только Марс в этом смысле отвечает всем требованиям. С одной стороны, Красная планета имеет относительно невысокую гравитацию (вспомним еще раз об электромагнитном линейном ускорителе для вывода груза с поверхности на орбиту). При этом Марс обладает достаточными запасами воды для массового производства водорода (причем параллельно будет производиться и кислород, очень ценный для организации жизни на этой планете).
Подобное заявление, на первый взгляд, звучит странно, поскольку многие из нас привыкли считать Марс «сухой» планетой. Однако на самом деле там достаточно много воды. Судя по данным со спутников, на поверхности планеты или на небольшой глубине имеется более пяти миллионов кубических километров льда. Для удовлетворения колонистов в воде достаточно будет небольшого кусочка от этой глыбы.
Вопрос: что делать с остальными запасами льда? Конечно, он был бы необходим в ходе дальнейшего терраформирования Красной планеты. Но, с точки зрения доктора Шубова, гораздо продуктивнее использовать эти водные ресурсы для производства водорода в интересах экономики всей Солнечной системы в среднесрочной перспективе. Разумеется, это произойдет не сразу, а только после того, как марсианская колония увеличится численно хотя бы до 10 тысяч человек.
Как мы сказали, автор сопровождает свои исследования детальными расчетами, что создает видимость инженерного подхода к указанной теме. Впрочем, доктор Шубин дает себе отчет в том, что на сегодняшний день мы не можем гарантировать точное исполнение указанного сценария. Точно так же мы не сможем сказать, какие технологии окажутся в приоритете. Тем не менее, на текущем этапе мы вправе создавать концептуальные модели на основе новейших технологий. И для создания таких работающих моделей необходимо приводить точнейшие расчеты. Благодаря такой работе научно-конструкторская мысль будет выливаться в конкретное русло, приводя в конечном итоге к созданию соответствующих технических устройств. Именно поэтому все предложения на этот счет необходимо прорабатывать детально уже сейчас, уверен доктор Шубов.
Конечно, может показаться, что подобные концептуальные модели балансируют на грани с фантастикой. Однако не стоит забывать, что именно такие «фантастические» идеи, высказанные еще полтора столетия назад (еще до появления ракетных двигателей) как раз положили начало космической эре. Главное значение подобных трудов – способность вдохновлять молодых энтузиастов, в числе которых вполне могут оказаться будущие ученые, инженеры и конструкторы (как это в свое время произошло с Сергеем Королевым, вдохновившимся идеями Циолковского).
Николай Нестеров
- Подробнее о Жидкий водород с Красной планеты
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии