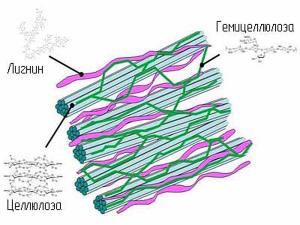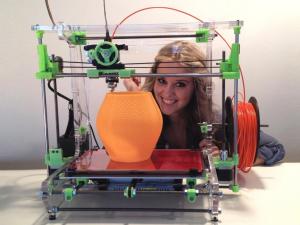Мы публикуем петицию преподавателей, требования которой были приняты на Форуме преподавателей вузов Москвы 17 июня, организованном региональным профсоюзом работников высшей школы России «Университетская солидарность».
Президенту РФ В.В. Путину
Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву
Заместителю председателя Правительства РФ О.Ю.Голодец
Мы, подписавшие это обращение, в очередной раз обращаем ваше внимание, что заявленные в официальных документах цели развития российского высшего профессионального образования и конкретные политические меры Правительства, Минобрнауки, как и действия руководства значительной части вузов находятся в вопиющем противоречии между собой.
Нам говорят об улучшении качества образования, о повышении конкурентоспособности российской высшей школы, обеспечении результативности и эффективности системы, об укреплении связей высшего профессионального образования с наукой и практикой, наконец, об увеличении оплаты труда преподавателей.
На деле мы видим и чувствуем на собственной шкуре совсем другое. Высшую школу ориентируют на рейтингобесие, когда вместо реального повышения качества образования пытаются имитировать формальные показатели, подчас не слишком честными средствами (вроде привлечения иностранных специалистов исключительно ради их высоких показателей цитируемости и индексов Хирша).
Стремятся удовлетворить требования «Дорожной карты» по количеству студентов, приходящихся на одного преподавателя, переводя часть преподавателей на ухудшенные условия труда. Этот прием используется и для повышения формальных показателей размеров оплаты штатных преподавателей. Показатель фальсифицируется так же тем, что в нем не учитывается увеличение объема нагрузки, то есть в реальности происходит снижение оплаты на единицу трудозатрат.
Фиктивными являются показатели «среднего» (арифметического) размера оплаты труда, так как при их расчете учитываются все виды выплат, в том числе связанных с внутренним совместительством, грантами, которые вообще не зависят от вуза, запредельно высокие выплаты руководящему персоналу вузов.
Массовые сокращения преподавателей и сокращение бюджетных мест в вузах оправдывают снижением численности потенциальных студентов из-за «демографической ямы», не учитывая альтернативных возможностей сохранения кадрового потенциала вузов.
Оценка эффективности вузов по плохо проработанной системе критериев, во многих случаях зависящих к тому же не от образовательных учреждений, а от руководящих ими органов, грозит снижением доступности высшего профессионального образования, прежде всего в провинции, лишением регионов локальных культурных центров.
Произвольные слияния вузов сопровождаются не сокращением управленческого аппарата (он во многих случаях возрастает), а опять же увольнениями преподавателей. Нестабильность существования преподавателей растет из-за перспектив перехода на так называемый «эффективный контракт» с недостаточно обоснованными показателями, с тенденцией сокращать сроки действия трудовых договоров. Это грозит подрывом у преподавателей стимулов к творческому продуктивному труду, приводит к внедрению в нашу среду психологии «поденщиков». Дальнейшее развитие антисолидарных подходов к формированию зарплаты преподавателей, заложенных постановлением 2008 года об «отраслевых системах оплаты труда», разрушает морально-психологический климат в коллективах, что так же негативно сказывается на качестве образования.
В целом мы видим, что предпринимаемые Правительством Российской Федерации и Минобрнауки России меры ведут не к выходу из глубокого кризиса, в котором пребывает российское высшее профессиональное образование, а к его усугублению и грозят просто распадом системы, потерей страной значительной части своего интеллектуального потенциала, сокращением возможностей для социальной мобильности.
У вас есть шанс доказать, что провозглашаемые вами цели – это не пустые обещания, данные из популистских соображений.
Доказать преподавателям вузов и обществу в целом, что вы и в самом деле озабочены будущим страны.
Мы считаем, что для спасения высшего образования необходимо ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ:
Начать широкую общественную дискуссию о целях, задачах и путях реформирования образования и науки, сшироким привлечениям независимых экспертов, преподавателей, ученых и общественности. Итогом этой дискуссии должна стать существенная корректировка основополагающих нормативных правовых актов в этой сфере;
Немедленно отменить уничтожающую образование и науку «Дорожную карту» - план мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденный Распоряжением Правительством РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р; Отменить Постановление Правительства РФ от 5 августа2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов», которое создало серьезные диспропорции в оплате труда работников образования, породило откровенную социальную несправедливость и создало неограниченные возможности для всевластия и произвола вузовской бюрократии;
Отказаться от практики назначения ректоров «сверху» как процедуры, разрушающей принципы университетской автономии и академической свободы. Расширять институты академического самоуправления, а не свертывать их;
Запретить практику сокрытия размеров и источников формирования доходов научных и образовательных организаций от трудового коллектива, которая создает возможности для произвольного и бесконтрольного расходования средств руководством в ущерб работникам;
Отказаться от порочной и незаконной практики объявления зарплат в вузах «коммерческой тайной»; создать прозрачную и справедливую систему начисления заработной платы (а также всех иных доходов), не допускающей превышения совокупного дохода ректора (и любого другого вузовского начальника) более, чем в три раза от среднего уровня оплаты профессорско-преподавательского состава вуза;
Перейти при оценке роста уровня оплаты труда вузовских преподавателей от среднего арифметического к медианному размеру оплаты труда как более объективно показывающему реальное положение дел; Не откладывать существенное повышение зарплат до 2018 г., учитывать не только «валовый» объем зарплаты, но и ее соотношение с реальным объемом нагрузки;
Не повышать объем учебной, особенно аудиторной нагрузки, а напротив, сократить ее, установив предельный размер нормальной учебной нагрузки в треть годового фонда рабочего времени – 520 часов при предельном объеме аудиторной («горловой») нагрузки в 180 часов. Создать реальные условия для занятия преподавателей научной деятельностью и особенно методической деятельностью, без которой не могут быть реализованы образовательные стандарты;
Пересмотреть с учетом открытого и широкого общественного обсуждения методику оценки эффективности вузов, дифференцировав ее по типам вузов и четко разделив показатели, зависящие от самих вузов и от деятельности вышестоящих государственных органов; выработать четкий алгоритм действий в отношении вузов, признанных неэффективными, отдавая приоритет их оздоровлению, а не ликвидации.
Практиковать слияние вузов лишь после серьезной и открытой оценки его необходимости и проработки процедур слияния, чтобы оно не наносило ущерб сложившимся коллективам;
Отказаться от планов и практики массового сокращения преподавателей и перевода их на худшие условия занятости; запретить заключение гражданско-правовых договоров с преподавателями иначе, как на подготовку новых курсов и учебно-методических комплексов. Перейти к практике заключения по итогам открытого конкурса бессрочных трудовых договоров с преподавателями;Обеспечить защиту трудовых прав компетентных и честных преподавателей, которые испытывают притеснения со стороны администрации вузов; решительно пресекать незаконные преследования и увольнения преподавателей по мотивам, не связанным с выполнением ими трудовых обязанностей (общественная, в том числе профсоюзная, деятельность, высказывание идеологических позиций, сексуальная ориентация и гендерная самоидентификация и т.п.);
Мы требуем отставки Д.Ливанова, который еще в ноябре 2012г. продемонстрировал циничное отношение к большинству российских преподавателей, назвав их «преподавателями невысокого качества» и после этого продолжавшего демонстрировать свои невысокие человеческие и деловые качества, а также свою вопиющую некомпетентность. Мы считаем, что на его место должен быть назначен человек, предлагающий программу реформирования образования в интересах обучающихся, преподавателей, широких слоев общества, а не бюрократии и крупного капитала. Его назначение должно стать результатом широкого общественного обсуждения предлагаемой программы.
*******************************************************
Аншаков Олег Михайлович, профессор кафедры математики, логики и интеллектуальных систем в гуманитарной сфере РГГУ, член профсоюза Университетская солидарность ;
Бабичева Елена Леонидовна, к.ф.н., доц. ПГУ;
Базанов Михаил Александрович, преподаватель Челябинского базового медицинского колледжа;
Барбенко Ярослав Александрович, канд. ист. наук., доцент Дальневосточного федерального университета;
Бахтин Виктор Викторович, к.и.н., доцент ВГАУ;
Белобрыкина Ольга Альфонсасовна, канд. психол. наук, доцент НГПУ;
Беспалов Сергей Валериевич, к.и.н., доц. РАНХиГС;
Булдаков Владимир Прохорович, д.и.н., г.н.с. ИРИ РАН;
Волков Николай Сергеевич, Московский государственный университет, член Центрального Совета профсоюза «Университетская солидарность»;
Волокитина Надежда Александровна, к. культурологии, доцент Сыктывкарского государственного университета;
Галкина Елена Сергеевна, доктор исторических наук, профессор МПГУ, сопредседатель межвузовской организации профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность»;
Гонина Наталья Владимировна, доцент кафедры истории и политологии Красноярского государственного аграрного университета.
Дамье Вадим Валерьевич, д.и.н., ведущий научный сотрудник Института Всеобщей истории РАН, профессор Высшей школы экономики;
Донских Олег Альбертович, д.филос.н., проф., зав. кафедрой философии НГУЭУ (Новосибирского государственного университета экономики и управления);
Ерусалимский Константин Юрьевич, д-р ист. наук, проф. каф.истории и теории культуры РГГУ;
Замятина Ирина Викторовна, д.ф.н., доцент Пензенского государственного университета;
Звягина Анна Стефановна, доцент, к.п.н., ДВГГУ , г. Хабаровск;
Иванов Фёдор Николаевич, к.и.н., доцент Сыктывкарского государственного университета;
Каверина Екатерина Николаевна, кандидат биологических наук, преподаватель;
Каневский Игорь Маркович, к.х.н,, доцент ЯГТУ;
Корниенко Светлана Юрьевна, к.ф.н., доцент Новосибирского государственного педагогического университета;
Котелевский Дмитрий Владимирович, доцент департамента философии Уральского Федерального Университета;
Красильников Сергей Александрович, доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного университета;
КрокинскаяОльга Константиновна, д.с.н., проф. Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена
Кудюкин Павел Михайлович, доцент ВШЭ, сопредседатель профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» ;
Кузнецов Валерий Александрович, доцент Самарского государственного технического университета;
Кузнецова Наталья Владимировна, преподаватель ДВГГУ;
Курляндский Игорь Александрович ,к.и.н, с.н.с. Института российской истории РАН;
Лобанов Михаил Сергеевич, к.ф.-м. н., доцент МГУ, председатель профкома профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ, сопредседатель профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность;
Лордкипанидзе Марина Георгиевна, к.э.н., доцент;
Лукоянов Игорь Владимирович, дин, внс Санкт-Петербургского института истории РАН;
Морозов Константин Николаевич, д.и.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХиГС, учредитель и член Совета «Вольного исторического общества», сопредседатель профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» и гл. редактор сайта профсоюза-http://unisolidarity.ru;
Николаев Владимир Геннадьевич, к.с.н., доцент кафедры общей социологии НИУ ВШЭ;
Николаи Федор Владимирович, к.и.н., доцент Нижегородского государственного педагогического университета;
Неретин Юрий Александрович, д. ф.-м.н, проф., мехмат МГУ;
Обуховский Валерий Владимирович, д.ф.-м.н., профессор Воронежского госуниверситета;
Пацаева Светлана Викторовна, к.ф.-м. н., старший преподаватель физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова;
Подосокорский Николай Николаевич, кандидат филологических наук, историк, литературовед;
Росляков Александр Борисович, к.с.н., доцент кафедры теории и истории социологии РГГУ;
Рублев Дмитрий Иванович, к.и.н., доцент РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева;
Солодников Владимир Владимирович, д.с.н., проф., социологический факультет РГГУ;
Соколов Никита Павлович, к.и.н, шеф-редактор журнала «Отечественные записки»; учредитель и председатель Совета «Вольного исторического общества»;
Семенова Татьяна Алексеевна, кфмн, доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ;
Сурмава Александр Владимирович, доцент Академии Социального Управления, сопредседатель межвузовской организации профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность»;
Тернопол Татьяна Вячеславовна, кандидат культурологии, ст. преподаватель ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;
Тиллес Ванда Феликсовна, к.т.н., доцент, Югорский государственный университет;
Трынов Дмитрий Валерьевич, ст. преподаватель УрФУ, председатель первичной организации профкома "Университетская солидарность" в УрФУ, сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" ;
Фомин Анатолий Аркадьевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета;
Федчук Дмитрий Аркадьевич, канд. филос. наук, доцент, СПбГЭУ;
Фридман Владимир Семёнович, к.б.н, снс биофака МГУ;
Черняго Любовь Сергеевна, к.г.н., доцент, член профсоюзного комитета межвузовской организации профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарности";
Шахматова Елена Васильевна, доцент Государственного университета управления, председатель профкома профсоюза «Уиверситетская солидарность в ГУУ;
Шиян Анна Александровна, к.ф.н., доцент УНЦ феноменологической философии философского факультета РГГУ;
Эрлих Сергей Ефроимович, к.и.н., издательство «Нестор-История»
Документ открыт для подписания вузовскими преподавателями (вне зависимости от размера ставки). Для подписания отправьте свою подпись (ФИО (полностью), степень (при наличии), должность и вуз (полностью)) на е-мейл гл. редактора сайта «Университетская солидарность» -morozov.socialist.memo@gmail.com (Константину Николаевичу Морозову) или разместите свою подпись ( и то, что Вы хотите сказать поданному поводу) под этим письмом ниже в комментариях или на сайте «Университетская солидарность» (предварительно зарегистрировавшись) - http://unisolidarity.ru/?p=2441, откуда Ваша подпись потом будет перенесена в общий список".