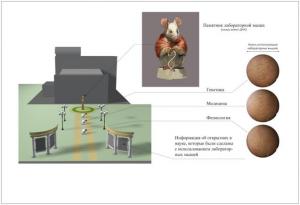«Создание квантового компьютера становится инженерной задачей»
Научная конференция по квантовым технологиям состоится при информационном партнерстве «Ленты.ру» 13-17 июля в Москве. В рамках открытия конференции один из основных организаторов, доктор физико-математических наук, руководитель группы Российского квантового центра (РКЦ) и заведующий лабораторией сверхпроводящих метаматериалов НИТУ МИСиС Алексей Устинов прочтет научно-популярную лекцию на тему «Квантовый компьютер: все еще миф или уже реальность?».
Специально для читателей «Ленты.ру» Устинов рассказал, какие исследования проводятся для создания квантовых компьютеров (КК), какие задачи стоят перед учеными и когда они могут быть реализованы.
Лекцию можно посмотреть онлайн на «Ленте.ру» или присутствовать лично — 13 июля в 10.00 в конференц-зале отеля Radisson «Украина» (требуется предварительная регистрация на http://conference2015.rqc.ru).
«Лента.ру»: Вы создали в России две экспериментальные лаборатории, в РКЦ и МИСиС. Обе они занимаются экспериментами со сверхпроводниками. Какое место занимают исследования, связанные с квантовым компьютером, в вашей научной деятельности?
Алексей Устинов: Сверхпроводимость — очень широкая область. В ней занимаются и идеальными проводами, и магнитами, и датчиками, с помощью которых создаются детекторы для ненарушающей диагностики, для снятия магнитных кардиограмм и энцефалограмм. Все это делается с использованием уникальных свойств сверхпроводников, определяемых законами квантовой физики.
Из известных научных исследований — это различные детекторы космического излучения (детекторы охлаждаются до температур, близких к абсолютному нулю, что кардинально уменьшает тепловые шумы, позволяет ловить более слабые сигналы — прим. «Ленты.ру»), например, в телескопе «Гершель» (Herschel Space Observatory), который позволил «сфотографировать» процессы образования звезд во Вселенной.
Квантовые компьютеры и построение кубитов (кубит — вычислительный элемент квантового компьютера — прим. «Ленты.ру») — это одно из новых направлений в сверхпроводимости. Эта область интересна тем, что она сочетает и квантовую оптику, и квантовую механику.
Созданием квантовых компьютеров плотно занимаются последние лет десять. Почему они еще не созданы?
Больше 10 лет на самом деле. Сейчас уже достаточно хорошо изучены принципы, которые необходимы для построения таких компьютеров. Проблемы в основном остались в технических способах изолировать от внешних воздействий квантовые системы, которые можно использовать — атомы, ионы, спины, сверхпроводящие устройства. Необходимо, чтобы они сохраняли состояние квантовой когерентности достаточно длительное время, не меняли бесконтрольно свое квантовое состояние. И здесь осталось еще огромное поле для работы физиков.
Как раз в сверхпроводимости эти вопросы в самые последние годы были подробно исследованы. Времена когерентности, которые сейчас достигнуты, уже позволяют делать серьезные устройства. Сверхпроводниковые кубиты отличает от других возможных элементов построения квантового компьютера то, что эти кубиты возможно массово воспроизводить на электронном чипе (масштабировать) как обычные элементы в современной микро- и наноэлектронике. Это гораздо труднее сделать в других подходах, которые обсуждаются для построения кубитов, например, на полупроводниках, на ионах в ловушках, на вакансиях в алмазах. Там показаны какие-то простые вещи для отдельных кубитов, но нет понимания, как это масштабировать.
Для сверхпроводников принципиальный путь построения систем с большим количеством кубитов уже ясен. Уже подключились достаточно большие игроки, которые специализируются на IT-технологиях — например, Google уже имеет лабораторию, где на основе сверхпроводников делают простые квантовые устройства, которые в перспективе станут компонентами квантовых процессоров.
Насколько Россия отстает от западных стран в построении квантовых компьютеров? Частные компании покупают готовые устройства, как Google купил D-Wave, или занимаются и фундаментальными исследованиями?
Google не только купил процессор D-Wave, но и создал собственную лабораторию меньше года назад, куда переманил сильнейшую команду – всю группу Джона Мартинеса из Санта-Барбары. Эта корпорация, как и D-Wave, создает квантовый компьютер на сверхпроводниках, но использует путь, альтернативный подходу D-Wave, который далеко не всем кажется правильным. Многие физики, включая меня, имеют сомнения, что устройства, которые продает эта канадская компания, являются действительно квантовыми. Это вопрос пока не закрытый.
Кроме Google из известных частных компаний свои лаборатории по созданию квантового компьютера сделали также IBM и Microsoft.
В России первое измерение кубита мы сделали два года назад. Этот кубит был в то время сделан в Германии, однако в этом году мы самостоятельно изготовили первый российский кубит и измерили его. Эта работа была сделана совместно с лабораторией Олега Астафьева в МФТИ и нашей с Валерием Рязановым лабораторией Российского квантового центра, располагающейся на территории Института физики твердого тела РАН в Черноголовке.
Существующий уровень того, что делается в мире по кубитам сейчас — это простые устройства от трех до девяти кубитов. Чтобы добраться до этого начального уровня, лидирующим в мире исследовательским группам пришлось пройти примерно десятилетний путь. То есть за прошедшую декаду западные исследователи от первых экспериментальных устройств - отдельных кубитов- продвинулись до простых схем, включающих несколько кубитов.
Понятно, что знания, которые уже накоплены в этой области, очень полезны, чтобы не повторять ошибок и идти дальше прямиком. Но, конечно, развитие этой области в России — это вопрос людей и времени, не говоря уже о деньгах. Нужны сотрудники, которые могут экспериментально исследовать подобного рода задачи. Таких молодых ученых в мире всего несколько сотен, это аспиранты и кандидаты наук, уже поработавшие в данной области. Эти люди сейчас все нарасхват, поскольку область исследований квантового компьютера стремительно развивается.
Давайте уточним: несколько кубитов умеют делать в квантовых компьютерах на сверхпроводниках? Илья Бетеров из НГУ рассказывал нам, что в американском университете Висконсин-Мэдисон созданы системы из 49 кубитов на дипольных ловушках. Чем различаются преимущества этих подходов?
Я не знаю подробностей их работы, но отмечу, что в области ионных ловушек, на мой взгляд, в последние годы наиболее передовые исследования проводит группа Райнера Блатта в Инсбруке. Но эти устройства все-таки не позволят выполнять произвольные квантовые алгоритмы, а значит — скорее подойдут для создания квантовых симуляторов. Такие устройства будут решать одну, строго определенную задачу с набором параметров, которые можно контролировать.
Я думаю, что квантовые симуляторы уже можно считать сформировавшейся областью, и построение таких аппаратов — дело нескольких лет. Построение большого квантового процессора потребует большего времени.
Чем будут полезны квантовые симуляторы?
Создание новых материалов — одна из областей, где будут эффективны квантовые симуляторы. Так, сильно взаимодействующие конденсированные системы — сложные кристаллы, например, — могут быть рассчитаны с использованием квантового симулятора. На них будет удобно быстро перебирать большое количество параметров, а обычным компьютерам просто не хватит мощностей, чтобы перебрать их. Одним из первых о необходимости такого подхода для создания новых материалов заговорил Евгений Демлер из Гарвардского университета, в прошлом выпускник МФТИ и один из сооснователей РКЦ. Одна из возможных сфер — синтез принципиально новых высокотемпературных сверхпроводников. Но пока это находится скорее на уровне теоретических идей, чем практических исследований.
Если уже есть исследовательские прототипы квантовых устройств, пусть и не очень совершенные, такие как D-Wave, почему на них не решаются те великие задачи, которые планируется решить с помощью квантовых компьютеров? Например, разложение больших чисел на простые множители для дешифрации кодов?
Процессор D-Wave по тем алгоритмам, которые он должен выполнять, просто не приспособлен для этого, он рассчитан на другие задачи. Опять напомню, что он не является тем исходным квантовым компьютером, который был придуман ранее и из-за которого разгорелся интерес к этой теме. Это простейший квантовый вычислитель, оперирующий с одной квантовомеханической задачей, фактически, аналоговым образом.
Разведки всех стран пока могут спать спокойно: все, на что способны существующие простейшие квантовые процессоры — это разложить число 15 на два простых множителя — 3 и 5.
Можно провести параллель состояния развития квантовых компьютеров с обычными полупроводниковыми?
Исследования в области полупроводников начинались с транзистора, следующей была интегральная схема. Уже существующие и работающие кубиты – фактически, аналоги транзисторов. Но и тут есть свои условности. Настоящий кубит-транзистор должен сохранять свое квантовое состояние, то есть «жить» достаточно долго, чтобы можно было провести вычисление и сделать "работу над ошибками" за времена когерентности, а для этого надо еще создать схемы с логическими кубитами, в которых ошибки будут постоянно исправляться с помощью рабочих кубитов. Это можно сравнить с осуществленной аппаратно схемой коррекции ошибок.
Теоретически возможно ее осуществить за счет «поверхностного кода» (surface code), при котором кубиты располагаются в шахматном порядке и их часть используется для хранения информации, а другая часть — для коррекции возникающих ошибок. Есть и более сложные подходы, но важен сам принцип. Схемы с коррекцией ошибок сейчас уже построены и командой в Санта-Барбаре, и IBM. Полагаю, что довольно скоро будет объявлено о создании первого логического элемента квантового компьютера, полностью устойчивого к ошибкам.
Думаю, что американцы здесь будут первыми. Но также очень серьезные европейские команды работают в Делфтском техническом университете в Голландии и в швейцарском университете Цюриха (команду в Цюрихе, кстати возглавляет мой ученик Андреас Валльрафф (Andreas Wallraff), но они немного отстают. Дело в том, что наука делается учеными, которые не обязательно нацелены на создание коммерческого устройства, а фокусируются на том, что им интересно, то есть на научных задачах. А построение квантового компьютера уже становится инженерной задачей. Он уже не 100-процентно пересекается с интересами физиков.
А есть уверенность, что можно построить квантовый компьютер, или теперь этот вопрос надо задавать инженерам?
Мое мнение на этот счет быстро меняется. Лет 5 назад я бы усмехнулся и сказал «скорее нет, чем да», а сейчас я бы сказал, что ситуация кардинально изменилась: «Глаза боятся, а руки делают». И я думаю, что он будет построен в обозримом будущем.
Возможно, квантовый компьютер будет построен не в том формате, как ранее виделось нам, немного не для тех задач, которые мы сейчас обсуждаем. Но фундаментальные физические проблемы со сверхпроводящими кубитами на данный момент практически решены: время когерентности увеличено в миллион раз и этого достаточно для построения систем с коррекцией ошибок. Сейчас вопрос в технической реализации — это уже задачи квантового инжиниринга пройти путь от микросхемы с одним транзистором до миллионов транзисторов. Это колоссальная работа и она делается скорее не физиками, а специалистами другой направленности.
Понимаю, что неблагодарный вопрос, но сколько лет потребуется на создание полноценных квантовых компьютеров?
Полагаю, лет через десять мы можем увидеть первые полноценные квантовые процессоры.
В чем сейчас главная сложность?
Одна из технических сложностей состоит в синхронизации работы элементов квантового компьютера. Обычный компьютер может работать и на пониженной частоте, но квантовый компьютер принципиально требует работы на высоких скоростях. И управлять однокубитными операциями надо с точностью 99,9 процентов, чтобы была эффективна коррекция ошибок.
Частоты квантового компьютера нельзя напрямую сравнивать с обычными, так как квантовый компьютер работает с суперпозицией состояний и одновременно выполняет большое количество операций. Выполнение этих операций требует импульсов на частоте от 5 до 10 гигагерц. Когда мы говорим о частотах, на которых необходима синхронизация, — это не частота сигналов управления, а частота манипуляций с кубитами. Сами манипуляции происходят заметно медленнее, характерное время сейчас составляет 100 наносекунд на операцию.
Сможем ли мы когда-то получить КК в наручных часах или квантовые компьютеры навсегда останутся большими шкафами из-за необходимости охлаждения компонентов ниже минус 270 градусов по Цельсию?
Думаю, наверняка появятся часы или какие-то мобильные устройства, которые будут использовать квантовые технологии. Это не обязательно будут низкие температуры, есть интересные эксперименты по квантовым технологиям в фотонных системах — например, на дефектах в алмазе. Эти операции происходят при комнатных температурах, и времена когерентности там достигнуты большие. Они позволят создавать интересные устройства, связанные с квантовой метрологией, повысят точность атомных часов, GPS, позволят определять координаты объектов на поверхности Земли с точностью до нескольких сантиметров и даже миллиметров.
Что же касается полноценных квантовых процессоров, то, мне кажется, они будут требовать охлаждения, а значит — более объемных установок. Хотя способы получения сверхнизких температур тоже очень быстро совершенствуются. Еще десять лет назад было сложно представить, что во всем мире будут стоять сотни криостатов, которые без заливки жидкого гелия после простого нажатия на кнопку за несколько часов позволяют достигать температур вблизи абсолютного ноля, в сотые доли градуса по шкале Кельвина.
Пока такие криостаты достаточно дорогие, но если они станут массовым явлением, то будут очень быстро дешеветь. Методы получения низких температур перешли от использования холодных жидкостей — гелия или азота для более высоких температур — к технологии применения пульсирующих трубок (pulse tube), которые позволяют достигать низких температур за счет расширения газа, без использования жидкости. Их уже делают и американские, и японские, и европейские компании — есть конкуренция. Для разработки этого метода многое было сделано в России, но это было еще в советские времена.
Зачем России квантовый компьютер?
Думаю, в первую очередь из соображений национальной безопасности. У американцев, видимо, скоро появится такое устройство, причем благодаря поддержке государства, которое финансировало его разработку как раз через различные агентства, связанные с национальной безопасностью. России не стоит отставать в гонке Super Power, — есть множество разнообразных приложений этих технологий.
Но стоит отдавать себе отчет в том, что в Америке на разработку подобных устройств уже были потрачены сотни миллионов долларов. А в России, насколько я знаю, по большому счету это лаборатории РКЦ и мой мегагрант, хотя он имеет непрямое отношение к созданию КК, — это примерно пять миллионов долларов. Есть также новая лаборатория Олега Астафьева в МФТИ, но там масштабы немного поменьше.
Это несравнимое с американским по объемам финансирование, но мы ведь пока и не строим КК, по большому счету, мы скорее здесь занимаемся фундаментальной наукой. Не скрою, нас пришлось бы еще долго уговаривать, начать заниматься сложнейшей технической задачей по построению КК, которая кажется нереалистичной в существующих пока условиях. Даже если не брать в расчет отсутствие необходимого финансирования, непонятно, как уговорить способных и квалифицированных людей, которые могут заниматься данным направлением. Вопрос не просто в деньгах, надо создать среду, в которой это все сможет развиваться — решение задачи требует колоссальных интеллектуальных и инженерных усилий и нельзя просто заплатить деньги и рассчитывать все это получить. Хотя, я думаю, как всегда найдутся люди, которые пообещают это сделать за определенную сумму лет за пять. Но не думаю, что они дадут результат за пять лет. Предстоит огромная работа, сопоставимая по сложности и объему с советским атомным проектом.
Из групп специалистов, которые реально могут получать первые результаты в этом направлении, в России есть пока только 5 организаций: Физтех (МФТИ), МИСиС, Институт физики твердого тела РАН, Российский квантовый центр и Новосибирский технический университет. Пока мы стремимся делать новые интересные физические эксперименты с небольшим количеством кубитов, не повторяя, а скорее опираясь на то, что уже сделано на Западе и не стремясь делать сколь-нибудь пригодное для практики вычислительное устройство. Но нам эта научная область очень интересна и на этом мы можем выращивать в России новое поколение исследователей, которые будут готовы заняться более серьезными задачами, в том числе и по разработке квантовых компьютеров.
Какие инженерные задачи еще предстоит решить?
Например, требуются устройства, которые при однократном считывании могут измерить состояние кубитов. Эти устройства представляют собой сверхпроводящие параметрические усилители. Их разработка является чисто прикладной задачей, которая потребует немало инженерных ресурсов. В мире уже существуют необходимые широкополосные устройства, они совсем недавно были разработаны. Например, мой коллега Ирфан Сиддики из калифорнийского университета в Беркли (США) предложил патент одного из вариантов такого устройства. Он вынужден был отдать права на него государству, потому что оно финансировало его исследования. Затем выкупил патент, создал свою небольшую компанию, и производит такие устройства, достаточно дорого продавая их.
В целом мы сейчас понимаем, как сделать квантовый компьютер, но надо проработать детали, как это осуществить. Это требует усилий большого количества ученых-инженеров и значительного финансирования для реализации прототипов. Это уже не так интересно с точки зрения физики. Честно говоря, я и многие мои коллеги-физики думают больше над тем, чтобы заняться новыми интересными физическими проблемами и не углубляться в исследования в области именно квантовых компьютеров – эта область быстро превращается в инженерную.
- Подробнее о «Создание квантового компьютера становится инженерной задачей»
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии