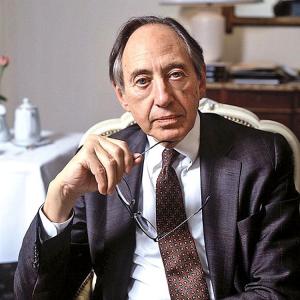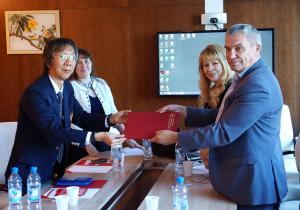7‑й Российский семинар по волоконным лазерам проведён с 5 по 9 сентября 2016 г. в новосибирском Академгородке Институтом автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ СО РАН) совместно с Научным центром волоконной оптики (НЦВО РАН), Новосибирским государственным университетом (НГУ) и Институтом вычислительных технологий СО РАН (ИВТ СО РАН).
Семинар проводится уже в седьмой раз: в 2007, 2012, 2014 и 2016 гг. он проходил в Новосибирске, в 2008 г. - Саратове, в 2009 г. - в Уфе и в 2010 г. - в Ульяновске. За это время он зарекомендовал себя как авторитетный крупный научный форум учёных, работающих в области волоконных лазеров в ведущих зарубежных и российских исследовательских, технологических и образовательных центрах.
Семинар проходил на трёх основных площадках: в Доме учёных СО РАН, Новосибирском государственном университете и Технопарке новосибирского Академгородка. Ведущие специалисты мирового уровня обсудили результаты фундаментальных и прикладных исследований в области волоконных лазеров и их применений в оптической связи, сенсорных системах, биомедицине, обработке и фотомодификации материалов.
На Семинаре было представлено 110 докладов. В работе Семинара и сопутствующих мероприятий приняли участие более 150 специалистов из разных стран и городов России, в т.ч. США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Израиля, Белоруссии, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Саратова, Ульяновска, Перми, Томска, Иркутска, Владивостока.
 На официальном открытии Семинара с приветственным словом выступили директор ИАиЭ СО РАН академик А.М. Шалагин, ректор НГУ профессор М.П. Федорук, директор НЦВО РАН д.ф‑м.н. С.Л. Семёнов.
На официальном открытии Семинара с приветственным словом выступили директор ИАиЭ СО РАН академик А.М. Шалагин, ректор НГУ профессор М.П. Федорук, директор НЦВО РАН д.ф‑м.н. С.Л. Семёнов.
Программа Семинара включала пленарную сессию, специальную сессию по нанофотонике, пять тематических сессий по волоконным лазерам и их применениям, стендовую сессию, объединенную сессию Семинара и Молодёжной конференции с представлением обзорных докладов ведущих специалистов, а также круглый стол «Волоконные лазеры в программе «Фотоника» под председательством президента Лазерной ассоциации стран СНГ профессора И.Б. Ковша.
Во время работы Семинара были проведены экскурсии в Технопарк, НГУ и ИАиЭ СО РАН.
На пленарной сессии С.Л. Семенов (НЦВО РАН, Москва) рассказал о новых типах многосердцевинных световодов – как пассивных (для передачи сигнала по волоконным линиям связи), так и активных (для волоконных лазеров). В.Я. Принц (ИФП СО РАН, Новосибирск) рассказал о технологиях 3D-печати для нанофотоники и волоконной оптики. Р.Р. Юнусов (Российский квантовый центр, Сколково) рассказал о последних достижениях в области передачи квантового ключа по волоконным линиям связи.
Большой интерес участников тематических сессий вызвали ряд докладов.
- Р.Е. Носков (Институт Макса Планка, Эрланген, Германия) рассказал об интересных оптомеханических явлениях в микроструктурированных световодах.
- А. Шипулин (Технический университет, Дармштадт, Германия) рассказал о перспективных компонентах нанофотоники для применений в волоконно-оптической связи.
- И.М. Раздобреев (университет Лилль, Франция) рассказал о магнитооптических исследованиях висмутовых волоконных световодов.
- А.И. Плеханов (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск) рассказал об использовании нанолазеров в качестве биологических зондов.
- В.В. Лебедев (директор ИТФ им. Ландау, Черноголовка) рассказал о кинетической теории случайного волоконного лазера.
- И.А. Лобач (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск) представил результаты совместной работы ИАиЭ и НЦВО о получении случайной генерации в активном (висмутовом) волоконном световоде.
- О.Л. Антипов (ИПФ РАН, Н. Новгород) рассказал о гибридных волоконно-твердотельных лазерах с параметрическим преобразованием частоты в средний ИК-диапазон.
- А.Н. Стародумов (компания Coherent, США) рассказал о прогрессе в технологиях фемтосекундных волоконных лазеров и их применениях.
- Д. Мясников (компания «ИРЭ-Полюс», Фрязино) рассказал о последних разработках группы IPG Photonics в области пико- и фемтосекундных волоконных лазеров для микрообработки материалов.
- А.В. Таусенев (компания «Авеста-Проект», Троицк) рассказал о первых российских коммерческих комб-генераторах на основе эрбиевых волоконных лазеров.
На объединённой сессии в НГУ, на которой присутствовали как участники семинара, так и молодые учёные, были представлены обзорные доклады:
- А.А. Романов (АО «Российские космические системы», Москва) - Использование фотонных технологий в космическом приборостроении.
- О.Е. Наний (компания «Т8 НТЦ», МГУ, Москва) - Тенденции развития когерентных оптических систем связи.
- А.А. Фотиади (Университет Монса, Бельгия) - Бриллюэновская фотоника.
- Д.А. Горин (СГУ, Саратов) рассказал о дистанционно управляемых наноструктурированных объектах для тераностики.
- А. Аполонский (университет Мюнхена, Германия) рассказал о первых тестах широкополосного лазерного спектрометра среднего ИК-диапазона для целей медицинской диагностики.
- А.А. Сысолятин (ИОФ РАН, Москва) - Волоконные лазеры в Fermi National Accelerator Laboratory.
- И.С. Шелемба (компания «Инверсия-Сенсор», Пермь). Российский опыт разработки и применений волоконно-оптических датчиков.
 На круглом столе в Технопарке обсуждались возможности госпрограммы «Фотоника» и сформированных в её рамках тематических рабочих групп, а также возможности прямого взаимодействия между российскими компаниями – производителями волоконных лазеров и систем и научных организаций, проводящих исследования и разработки в области волоконных лазеров и их применений.
На круглом столе в Технопарке обсуждались возможности госпрограммы «Фотоника» и сформированных в её рамках тематических рабочих групп, а также возможности прямого взаимодействия между российскими компаниями – производителями волоконных лазеров и систем и научных организаций, проводящих исследования и разработки в области волоконных лазеров и их применений.
Круглый стол плавно перешёл в неформальное общение между участниками на фуршете.
Параллельно с Семинаром в конференц-зале Института автоматики и электрометрии СО РАН проходила традиционная Молодёжная конкурс-конференция «Фотоника и оптические технологии». Организаторами конференции были ИАиЭ СО РАН и НГУ. Стоит отметить, что конференция была поддержана международным оптическим обществом SPIE. Всего в работе конференции приняло участие 25 молодых учёных. Программа конференции состояла как из докладов молодых учёных, так и обучающих лекций ведущих учёных, в рамках объединённой сессии с Семинаром по волоконным лазерам, прошедшей в новом корпусе НГУ. Кроме научной составляющей программа конференции включала в себя околонаучные мероприятия. Традиционными стали игры в оптические шахматы, где шах и мат ставится с помощью лазера. Также прошла научная дискуссия, где обсуждались вопросы современных методов представления и популяризации научного материала. По итогам молодёжной конференции компетентное международное жюри отобрало лучших молодых докладчиков, которые были премированы почётным дипломом и денежным поощрением со стороны ИАиЭ СО РАН.
На закрытии Семинара отмечался высокий уровень представленных докладов, большая польза от прямого общения между учёными, инженерами, аспирантами и студентами, а также были высказаны предложения о новых формах, которые, возможно, будут реализованы на следующем Семинаре в 2018 году.
Материалы Семинара опубликованы в виде сборника и доступны на сайте http://rfl16.iae.nsk.su, на основе лучших докладов будут подготовлены статьи для журналов «Квантовая электроника», «Прикладная фотоника» и «Фотоника».
Фото Н.Н. Максимовой