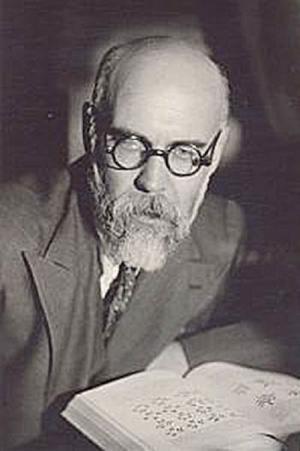Первую часть интервью читайте здесь. В ней Владимир Рубанов, в частности, объяснил – почему «закон Яровой» не поможет выиграть информационную войну.
– А могут ли программисты решить эти проблемы?
– В том-то и дело, что это не компетенция программистов, а так называемых архитекторов. Это люди и структуры по моделированию процессов и систем управления, аналитики, специалисты по формализации описания соответствующих сфер деятельности и архитекторы информационных систем. Это и есть топ-уровень современной IT-индустрии, ее интеллектуальное ядро. Это те самые мозги, за которыми сегодня идет охота в глобальном масштабе.
У нас к специализации и компетенции архитектора относятся поверхностно и формально. Обычно архитекторами информационных систем и представителями в межведомственных советах назначаются заместители руководителей ведомств по PR и GR в соответствии с должностью, а не с профессиональной подготовкой. Но именно эта категория лиц выступает постановщиками задач для программистов. В мировой практике уровень создаваемых информационных технологий определяется лицами, которые занимаются онтологическим (смысловым) проектированием, а не созданием технических решений. Даже мировые программистские компании начинают двигаться от программного продукта к управленческому консалтингу, отводя программированию техническую нишу. Трудно ожидать впечатляющих успехов России в инфосфере, если у нас главной фигурой продолжает выступать программист.
Набирают, к примеру, в казанский "Иннополис" несколько тысяч программистов, а архитекторов систем и постановщиков масштабных инновационных задач для них нет. Это все равно, что набрать производственный коллектив авиационного завода без наличия главного конструктора самолета и ожидать, что результат появится сам собой.
Дело еще и в том, что разработчики масштабных глобальных систем могут ими управлять в процессе эксплуатации. Так, в создании Facebook и определении его функциональности свою роль играли представители спецслужб и Агентства передовых исследований Минобороны США (DARPA). Уже сама архитектура системы и технология управления сетью, сортировки и анализа информационных потоков зашиты в функционал системы и могут делать необходимую аналитику по запросам государства в автоматическом режиме – дешево и надежно. Им не нужно для этого делать дорогие и малоэффективные надстройки, подобно "закону Яровой", так как сценарии использования таких систем и социальных сетей в информационных войнах изначально заложены в их архитектурных решениях.
– Каким образом?
 – Да очень просто. По результатам обработки данных о фактах доступа российских ученых к определенным ресурсам, например, достаточно легко определить тематику, успехи и проблемы России в той или иной отрасли. Достаточно выбрать в Facebook интересующее профессиональное сообщество, проанализировать, о чем говорят его представители, например физики, о чем пишут, какие книги читают, и все становится ясно. При этом подобное управление информационными потоками и аналитика могут быть реализованы с помощью автоматов и "умных агентов". Можно по сетям и вирусы модификации сознания запускать. Например, сегодня активным спросом пользуется технология video on demand ("кино по запросу"): подписчикам, как правило, не хочется тратить свое время на поиски киношедевра, а разработчики программ управления видеопотоками могут оказывать свой "ненавязчивый сервис" через продвижение определенного видеоконтента, программируя тем самым сознание пользователей. Такие средства – уже точно из арсенала не информационного, а эпистемологического противостояния. И здесь, конечно, нам нужно жить своим умом, строить свои модели под свои цели и задачи, иначе мы рискуем повторить печальный опыт советской электронной промышленности.
– Да очень просто. По результатам обработки данных о фактах доступа российских ученых к определенным ресурсам, например, достаточно легко определить тематику, успехи и проблемы России в той или иной отрасли. Достаточно выбрать в Facebook интересующее профессиональное сообщество, проанализировать, о чем говорят его представители, например физики, о чем пишут, какие книги читают, и все становится ясно. При этом подобное управление информационными потоками и аналитика могут быть реализованы с помощью автоматов и "умных агентов". Можно по сетям и вирусы модификации сознания запускать. Например, сегодня активным спросом пользуется технология video on demand ("кино по запросу"): подписчикам, как правило, не хочется тратить свое время на поиски киношедевра, а разработчики программ управления видеопотоками могут оказывать свой "ненавязчивый сервис" через продвижение определенного видеоконтента, программируя тем самым сознание пользователей. Такие средства – уже точно из арсенала не информационного, а эпистемологического противостояния. И здесь, конечно, нам нужно жить своим умом, строить свои модели под свои цели и задачи, иначе мы рискуем повторить печальный опыт советской электронной промышленности.
– А что с ней случилось?
– Ее загубили на корню. Попытки преодолеть отставание путем копирования чужих образцов с помощью научно-технической разведки оказали развитию электронной отрасли медвежью услугу. Копирование чужого вместо развития собственной компетенции привело к утрате соответствующих математических школ, навыков моделирования и дизайна, того научного фундамента, той интеллектуальной культурной почвы, на которой рождаются и произрастают электронные технологии.
Воспроизвести чужие модели и алгоритмы в железе – не очень сложно. Китай и страны Юго-Восточной Азии продемонстрировали впечатляющие успехи как "фабрики" современной электроники. Но "лаборатории" электронной техники сконцентрировались в США, и именно от них зависит, что, когда, сколько и за сколько смогут производить "фабрики".
В отдельных случаях до 90 процентов прибылей от продукции "фабрик" получают "лаборатории". В России до сих пор считают важным развивать именно "фабрики", а не "лаборатории". Тем самым мы вступаем в ценовую конкуренцию с Китаем, Вьетнамом и другими странами Юго-Восточной Азии, а для этого мы должны уронить цену рабочей силы ниже уровня этих стран. Как вам такая перспектива? Эффективным сегодня может быть только производство собственного уникального продукта, а не тиражирование чужого. Еще на рубеже 1970-1980-х годов США приняли и успешно реализуют программу "научной лаборатории мира". В рамках этой стратегии они стягивают со всего мира мозги, а взамен продают другим странам лицензии на производство того, что создано в их лабораториях. Видите разницу? Они подсчитали, что самый большой доход приносят научные разработки – они наверху современной экономической пирамиды, ниже – продажа технологий, а в ее основании – производство. Идея проста: контроль над наукой – контроль над миром путем концентрации лучших мозгов со всего мира. На начальном этапе такая стратегия подвергалась сомнению. Помнится, как бывший госсекретарь США Иглбергер выразил опасение по поводу того, что слишком уж много иностранных ученых работает в американских оборонных научно-технических центрах и хорошо бы их "потрясти", а то про бдительность забыли. Знакомая риторика?
 – И что ответило научное сообщество?
– И что ответило научное сообщество?
– Заявило, что предателей среди разведчиков и военных статистически больше, чем среди ученых, так что, если не дает покоя зуд по части "чистки рядов", пусть начнут с себя. Кроме того, ученые напомнили, что именно они приносят полезные для решения военных задач идеи и смогут принести еще больше пользы, если будут опираться на лучшие в мире мозги. При таком подходе защита от научно-технической разведки не является приоритетом, так как тот, кто воспроизводит чужое, заранее обречен на проигрыш. Был сформулирован принцип: единственный способ выиграть в соревновании – бежать быстрее других. И они были правы: сегодня в IT-отрасли обновление моделей идет каждые полгода, а это значит, что воровать эти разработки бесполезно – они устаревают раньше вывода продукта на рынок. Передовую "лабораторию" методами промышленного шпионажа не догнать. В Штатах правильно рассчитали: наивысшая ценность сегодня – творческий ум, он гораздо выше, чем созданные им вчерашние результаты. Главное – это умение отвечать на актуальные сегодняшние вызовы, создавать принципиально новые решения. А это могут делать только подготовленные творческие люди. И в этом – главный ключ успеха США на пути к доминированию в области знаний, а стало быть, и в глобальном информационном пространстве.
– А что в России?
– В России создали фонд "Сколково" и еще ряд институтов развития. Я сам член экспертной коллегии этого фонда. Мол, вот он – наш ответ DARPA. А ответ оказался слабый и далеко не адекватный. Из тысяч маленьких инициатив невозможно сделать даже один более или менее масштабный проект, продвигающий Россию на более высокие позиции в мировом технологическом и информационном пространстве.
– А как процесс организован в США?
– Возьмем, к примеру, сотовый телефон – в нем пластинка с микросхемой и батарейка. Современные разработки в области миниатюризации и энергосбережения уже дошли до уровня атома. Куда дальше? DARPA ставит перед мозгами вопросы: перейти из плоскости в объем можете? А заменить электричество на свет? В США выделили 25 направлений фундаментальных математических и физических исследований, заточенных на решение именно этих двух фундаментальных направлений. И поставило их перед учеными государственное агентство с позиции национального интеллектуального лидера, ответственного перед будущим. Я в то же время посмотрел список РАН: там было 270 направлений, самых разношерстных, без системообразующей идеи и понимания того, какое прорывное технологическое направление сформируется в результате их успешного завершения. Вместо целеустремленной стратегии – компиляция индивидуальных планов отдельных ученых и научных коллективов.
Но из 100 больших мышей нельзя сделать даже одного маленького слоненка! Впрочем, слона-то у нас как раз делать и не хотят, все заняты мышиной охотой.
Вел как-то беседы с высокими руководителями одной госкорпорации и спросил, кто их конкуренты. Это крупнейшая американская компания Northrop Grumman. Поинтересовался, какие у нашей корпорации проблемы. Стали называть нехватку фрезеровщиков и других производственных профессий. Спросил про IT-специалистов и их стимулирование. Вопрос застал врасплох. Пришлось разъяснить, что у их глобального конкурента материальное производство составляет 17 процентов, а 34 процента – информационные технологии. Американцы держат цифровую модель, которая и обеспечивает глобальную кооперацию производства, организованного цифровым образом. Отлить форму по матрице, обрезать заготовку и просверлить отверстия в детали по шаблону – дело нехитрое. А вот найти и стимулировать тех, кто способен построить цифровые модели сложнейших комплексов и организовать глобально организованное цифровое производство,– это и есть сегодня главное. Именно этот слой специалистов – главная ценность и ведущее конкурентное преимущество в современной экономике. Но сырье, энергию и изделия мы считаем по мировым ценам, а затраты на специалистов с уникальными компетенциями – по внутренним инструкциям. Вот мозги и утекают к конкурентам. И не докричаться пока этим уникальным специалистам до верхов, как не смог этого сделать и их прародитель Левша: "Передайте императору, что нельзя ружья кирпичом чистить!"
И пока "профессиональные патриоты" активно ищут "пятую колонну", потомки Левши потихоньку утекают за рубеж. Вместе со своими мозгами и ценными знаниями. Щедрый подарок конкурентам и соперникам. Зато меньше тех, кто может думать неправильно.
– Это про то, что мы не там ищем угрозу?
 – Актуальная угроза для России заключается в нашем нарастающем отставании в мирном соперничестве, без которого сомнителен успех в военной сфере. Обеспечение информационной безопасности при таком подходе заключается в необходимости скорейшего устранения огрехов своего информационно-технологического развития. Но, как говорил В. Черномырдин, "стараемся сделать как лучше, а получается как всегда". Вернемся к фонду "Сколково". Он создан для обеспечения свободы творчества и поддержки творческих инициатив. По факту получилась контора для своих – новой "научной бюрократии": на зарплаты сотрудников "Сколково" ушло почти в два раза больше бюджетных денег, чем на все гранты для поддержки проектов. Средняя зарплата в самом фонде приближается к 500 тысячам рублей (почти в 14 раз выше средней по России). Но попробуйте указать даже в пять раз меньшую зарплату для привлекаемых специалистов при обосновании проекта на получение гранта! Опять как всегда: не вспомогательные структуры для науки, а наука как обоснование для кормления распорядителей бюджетных денег. По факту выходит, что главный в научных разработках в России – опять чиновник, хоть и на зарплате в "Сколково". В Штатах – наоборот.
– Актуальная угроза для России заключается в нашем нарастающем отставании в мирном соперничестве, без которого сомнителен успех в военной сфере. Обеспечение информационной безопасности при таком подходе заключается в необходимости скорейшего устранения огрехов своего информационно-технологического развития. Но, как говорил В. Черномырдин, "стараемся сделать как лучше, а получается как всегда". Вернемся к фонду "Сколково". Он создан для обеспечения свободы творчества и поддержки творческих инициатив. По факту получилась контора для своих – новой "научной бюрократии": на зарплаты сотрудников "Сколково" ушло почти в два раза больше бюджетных денег, чем на все гранты для поддержки проектов. Средняя зарплата в самом фонде приближается к 500 тысячам рублей (почти в 14 раз выше средней по России). Но попробуйте указать даже в пять раз меньшую зарплату для привлекаемых специалистов при обосновании проекта на получение гранта! Опять как всегда: не вспомогательные структуры для науки, а наука как обоснование для кормления распорядителей бюджетных денег. По факту выходит, что главный в научных разработках в России – опять чиновник, хоть и на зарплате в "Сколково". В Штатах – наоборот.
Первый принцип работы DARPA: потерять человека страшнее, чем потерять деньги. Второй: новый проект должен оппонировать традиционным подходам. Вы представляете судьбу проекта для грантовой поддержки, если он противоречит концепции какого-то академика РАН?
В Штатах во главу угла ставится человек от науки, и уже под него создается структура. Там отлично понимают разницу между, скажем, самим Келдышем и коллективом сотрудников Института его имени. И обеспечивают финансирование конкретного ученого с идеей, а не структуры. А чтобы ученый занимался только наукой – ему придаются экономисты и юристы, которые ученому помогают, а не заставляют каждый день перед ними отчитываться.
– И кто там рулит процессом?
– Вы удивитесь: преимущественно научные фантасты. Да и Голливуд как "фабрика грез" выступает не только развлекаловкой для ширнармасс, но и производителем образов и смыслов для всей планеты. С Голливудом и для Голливуда работают многие всемирно известные специалисты в области IT и искусственного интеллекта. Кстати, Тимур Бекмамбетов является одним из грантополучателей "Сколково" по проекту, реализуемому по заказу и в сотрудничестве с Голливудом. Таким футуристическим подходом американцы закрывают главную прореху своей науки – уж слишком она ориентирована на прибыль, на быструю реализацию. Но в Штатах уже научились вкладывать средства в "небывальщину". Когда в свое время я беседовал с Анитой Джонс, на тот момент возглавлявшей DARPA, американская пропаганда вовсю отрабатывала тему "звездных войн". Россия же пыталась рассказать всему миру о технической несбыточности "звездных войн". Так вот, нам объяснили, что получить деньги из бюджета на "небывальщину", которая через десятки лет станет реальностью, можно только так – с помощью Голливуда и мечты для нации, через новый образ и стиль жизни. И они были правы: под фантазию "звездных войн" DARPA наработало столько технологий, что они сегодня служат основой прорывных инновационных решений с широким практическим применением.
Итог информационной государственной политики – устойчивое стремление российской молодежи работать исключительно в крупных компаниях или госструктурах. Сложившаяся ситуация – результат доминирования в обществе социальных групп с паразитарно-потребительскими установками
– Получается, США делают ставку на культуру и науку?
– Да. Экономика в развитых странах мира сегодня становится культуроцентричной: вершину социально-экономической иерархии занимают те, кто выявляет и решает новые проблемы, создает и продвигает символы. Как Стив Джобс с брендом "Apple". Одновременно идет смещение центра формирования и управления экономическими процессами от сферы производства в сферу финансов. Так что задача превращения идеи в прибыльное предприятие решается конкурентной борьбой за потребителей, а не за производителей. В технологически развитых странах наука превратилась в сложный социальный институт, который определяет структуру общества и национальное самосознание. Сегодня в мире нет ничего эффективнее стоимости, создаваемой знанием.
– Это и есть цифровая экономика?
– Отчасти. В цифровой экономике важно еще создать социальные модели, где бы потребитель был соединен с посредником и производителем – так называемые платформы многосторонних рынков, за которые француз Тироль получил пару лет назад Нобелевскую премию по экономике.
В цифровой реальности автомобиль – это уже не средство передвижения, а сложнейший компьютер, управляемый сетью. Даже "умная машина" – уже тоже вчерашний день: кому она нужна без "умного города"?
В ЕС год как заняты цифровой трансформацией экономики. В России, справедливости ради скажем, ряд госкомпаний тоже вписали подобный пункт в свои планы, но пока декларацией все и ограничилось. Сегодня на Западе во главе угла уже даже не технологические идеи, а социальные. Так, население развитых стран стареет, а потому социальные сети начинают применяться не ради болтовни, а как среда оказания их участниками взаимных услуг, самообслуживания в широком диапазоне – от получения советов до оказания помощи конкретными действиями. Мы тоже пытаемся создавать систему телемедицины, но пока копируем чужой опыт и технологии. Опять же не хватает конструкторов сетей, архитекторов сложных систем при избытке административных барьеров.
– Почему же их нет?
– Потому что общество не осознало такой потребности. Это результат 20-летнего культивирования в массовом сознании "мира потребления без производства". Итог, если хотите, российской информационной государственной политики – устойчивое стремление российской молодежи, по данным социологов, получить доступ к административной и сырьевой ренте, мечта работать исключительно в крупных компаниях или госструктурах. В лидерах предпочтений – "Газпром", администрация президента и правоохранительные органы. Такой перекос сказывается на престиже производственных профессий в том числе. Сложившаяся ситуация – результат доминирования в обществе социальных групп с паразитарно-потребительскими установками. И угроза безопасности страны сегодня исходит не от говорливого рунета и уж тем более не от промышленного шпионажа или пропаганды со стороны Запада, а от таких извращенных установок внутри страны и от реальной утечки так необходимых нам сегодня мозгов.
Беседовала Светлана Сухова