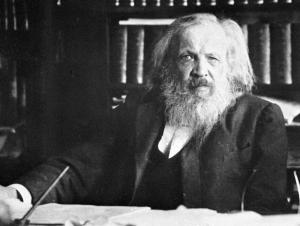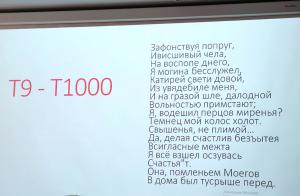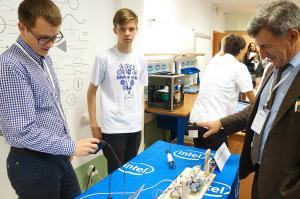Глобальное потепление стало неизбежным?
В сентябре 2016 года концентрация углекислого газа в атмосфере Земли преодолела психологически значимую отметку в 400 ppm (долей на миллион). Это делает сомнительными планы развитых стран по недопущению повышения температуры на Земле более чем на 2 градуса.
Глобальное потепление — это повышение средней температуры климатической системы Земли. За период с 1906 по 2005 год средняя температура воздуха возле поверхности планеты выросла на 0,74 градуса, причем темпы роста температуры во второй половине столетия примерно в два раза выше, чем за период в целом. За все время наблюдений самым жарким считается 2015 год, когда все температурные показатели на 0,13 градуса превысили показатели 2014 года — предыдущего рекордсмена. В различных частях земного шара температуры меняются по-разному. С 1979 года температура над сушей выросла вдвое больше, чем над океаном. Объясняется это тем, что температура воздуха над океаном растет медленнее из-за его большой теплоемкости.
Основной причиной глобального потепления считается деятельность человека. Косвенными методами исследования было показано, что до 1850 года на протяжении одной или двух тысяч лет температура оставалась относительно стабильной, правда с некоторыми региональными флуктуациями.
Таким образом, начало климатических изменений практически совпадает с началом промышленной революции в большинстве западных стран. Основной причиной на сегодняшний день считаются выбросы парниковых газов. Дело в том, что часть энергии, которую планета Земля получает от Солнца, переизлучается обратно в космическое пространство в виде теплового излучения.
Парниковые газы затрудняют этот процесс, частично поглощая тепло и удерживая его в атмосфере.
Добавление в атмосферу парниковых газов ведет к еще большему разогреву атмосферы и росту температуры у поверхности планеты. Основные парниковые газы в атмосфере Земли — это углекислый газ (СО2) и метан (СН4). В результате промышленной деятельности человечества в воздухе растет концентрация именно этих газов, что приводит к ежегодному росту температуры.
Поскольку потепление климата угрожает буквально всему человечеству, в мире неоднократно принимаются попытки взять этот процесс под контроль. До 2012 года основным мировым соглашением о противодействии глобальному потеплению был Киотский протокол.
Он охватывал более 160 стран мира и покрывал 55% мировых выбросов парниковых газов. Однако после окончания первого этапа Киотского протокола страны-участники не смогли договориться о дальнейших действиях. Отчасти составлению второго этапа договора помешало то, что многие участники избегают применения бюджетного подхода для определения своих обязательств в отношении эмиссии СО2. Эмиссионный бюджет СО2 — количество выбросов за определенный период времени, который рассчитывается из температуры, которую участники не должны превысить.
Согласно решениям, принятым в Дурбане, никакое обязывающее климатическое соглашение не будет действовать до 2020 года, несмотря на необходимость срочно предпринять усилия по сокращению эмиссии газа и снизить выбросы. Исследования показывают, что в настоящее время единственной возможностью обеспечить «разумную вероятность» ограничения потепления величиной 2 градуса (характеризующей опасное изменение климата) будет ограничение экономик развитых стран и их переход к стратегии антироста.
И вот в сентябре 2016 года, по данным обсерватории Мауна-Лоа, был преодолен очередной психологический барьер эмиссии парникового газа СО2 — 400 ppm (долей на миллион).
Нужно сказать, что эта величина многократно превышалась и раньше, но сентябрь традиционно считается месяцем с самой низкой концентрацией СО2 в Северном полушарии.
Объясняется это тем, что зеленая растительность успевает за лето поглотить некоторое количество парникового газа из атмосферы, прежде чем листья с деревьев опадут и часть СО2 вернется обратно. Поэтому если психологически важный порог в 400 ppm был превышен именно в сентябре, то, скорее всего, ежемесячные показатели уже никогда не будут ниже этого значения.
«Возможно ли, что в октябре этого года концентрация снизится по сравнению с сентябрем? Полностью исключено, — поясняет в своем блоге Ральф Килинг, сотрудник Скриппсовского института океанографии Сан-Диего. — Кратковременные падения уровня концентрации возможны, но усредненные за месяц величины теперь всегда будут превышать 400 ppm».
Также Килинг отмечает, что тропические циклоны могут снизить уровень концентрации СО2 на короткое время. С ним соглашается и Гэвин Шмидт, главный климатолог NASA: «В лучшем случае можно ожидать некий баланс, и уровень СО2 не будет расти слишком быстро. Но, по моему мнению, СО2 уже никогда не упадет ниже 400 ppm».
Согласно прогнозу, к 2099 году концентрация СО2 на Земле будет равняться 900 ppm, что составит порядка 0,1% от всей атмосферы нашей планеты. В результате средняя дневная температура в таких городах, как Иерусалим, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Мумбаи, будет близка к +45°C. В Лондоне, Париже и Москве летом температура будет превышать +30°C.
- Подробнее о Глобальное потепление стало неизбежным?
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии