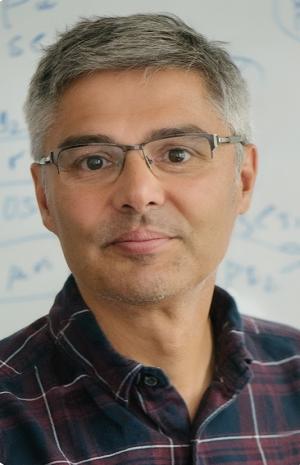Куры на «аутсорсинге»
Когда мы говорим: «Умная ферма», в сознании почему-то всплывает популярная компьютерная игра, где вы «создаете» себе свою собственную усадьбу, «выращиваете» там овощи и фрукты, «обзаводитесь» курами и коровами, постоянно следите за этим «хозяйством», «кормите» там своих кур и коров. А как бы вы отнеслись к возможности через Интернет – прямо из квартиры – следить за своими курами, только не виртуальными, а реальными? Курами, несущими настоящие яйца, которые принадлежат вам!
Именно такой проект реализуется в Новосибирской области. О нем рассказал генеральный директор ООО «Умная Ферма» Алексей Перфильев. «Однажды, – говорит предприниматель, – мы задались вопросом: может ли человек, находясь в городском пространстве и имея очень мало свободного времени, заняться сельским хозяйством? Один из наших сотрудников решил обзавестись коровой, и нам стало интересно, возможно ли что-то подобное осуществить для горожан».
Ответом на этот вопрос как раз и стал проект, позволяющий городским жителям наблюдать за своим хозяйством через специальный интернет-сайт. Так, собственно, и возникла «умная» ферма. Из всего спектра фермерского хозяйства выбор пал (на первых порах) на обычный курятник. «Крупный рогатый скот – это для нас пока что слишком сложно, поэтому мы решили остановиться на птице», – отметил Алексей Перфильев. В общем, был построен курятник, снабженный необходимыми датчиками и видеокамерами. Всё это выведено на сайт.
«На этом сайте сейчас есть возможность любому городскому жителю заказать у нас размещение курицы. То есть это будет ваша курица. Вы сможете самостоятельно приобрести для нее корм. Мы, со своей стороны, осуществляем поддержку в нормальном состоянии вашей птицы», – рассказывает Алексей Перфильев.
Управление осуществляется через личный кабинет. Причем, чтобы получить продукцию, даже не обязательно специально приезжать на ферму – есть услуга доставки продукта на дом. Кроме того, вы можете воспользоваться и услугой ветеринара, заказать дополнительный корм, заказать дополнительную уборку, а также задать вопрос технологу. Есть еще возможность включить дополнительно такой функционал, как «включить свет», «выключить свет». Можно даже поставить музыку.
Что касается курятника, то он создан по модульной схеме, позволяющей осуществлять масштабирование. То есть по мере роста заказов будет расти и сама ферма, когда курятники устанавливаются один за другим. На данный момент обслуживаются пока что два фермера. Их куры уже несут яйца, доставляемые владельцам прямо на дом. Подчеркнем, что эти фермеры – обычные городские жители, далекие по своей основной работе от сельского хозяйства. Тем не менее, теперь они, благодаря «умной» ферме, потребляют яйца от собственных кур. Первый курятник, отмечает Алексей Перфильев, спокойно простояла всю зиму. Куры без проблем пережили январские холода и спокойно неслись даже при сорокоградусных морозах.
Может ли фермер получать какой-то дополнительный доход, имея, скажем, десяток кур? По мнению предпринимателя, после тщательно проведенных расчетов стало понятно, что необходимо создавать интернет-магазин именно для реализации продукции с этой фермы. По сути, здесь предполагается два варианта: либо заводить своих кур и получать от них яйца, либо заводить интернет-магазин и покупать яйца у тех фермеров, которые будут выставлять их на продажу. Допустим, у фермера куры снесли десяток яиц (каждая курица кладет минимум по одному яйцу в день). Если фермеру столько не нужно, он включает команду «продать». После реализации на его счет перечисляются деньги, вырученные с этой продажи. Яйца, естественно, доставляются тому человеку, который кур не приобретал. В общем, вы можете стать либо собственником кур и распоряжаться продукцией по своему усмотрению, либо быть только лишь потребителем готовой продукции.
Интересное наблюдение по поводу вкуса яиц. Как утверждает Алексей Перфильев, разница во вкусе между обычными «магазинными» яйцами и яйцами, выращенными на «умной» ферме, – просто колоссальная. «Фермерское» яйцо оказалось намного вкуснее, несмотря на то, что корм приобретается у одних и тех же комбинатов. По идее, всё должно быть одинаковым. Причину этой разницы разъяснили научные консультанты.
Дело в том, что на комбинатах корм строго дозируется: птица получает столько корма, сколько необходимо для того, чтобы она нормально несла яйца. Если же давать дополнительный корм, то вкус яиц улучшается. Фактически это означает, что фермер может влиять на вкусовые качества продукции. Если он желает сделать яйца еще вкуснее, он может включить команду «покормить дополнительно».
Кстати, кроме яиц востребованной оказалась еще одна «продукция» – куриный помет. У местных огородников он буквально нарасхват, поскольку является ценным натуральным удобрением. Так что этот вид хозяйства можно назвать безотходным.
Согласно планам, озвученным Алексеем Перфильевым, в ближайшее время ими будет создан огород. Также в планах – разведение уток, гусей и коз. На перспективу – создание коровника, свинарника, теплицы и даже… пашни! «Чисто теоретически», – объясняет Алексей Перфильев, – каждый житель может зайти на сайт, нажать кнопку и попросить засеять гектар пшеницы. После установки камеры он увидит, как поедет трактор, который вспашет и засеет поле. Потом он сможет следить за тем, чтобы пшеница нормально росла».
Теоретически сейчас рассматривается вариант создания специальных комплексов, где горожане будут держать различную крупную живность (скажем, лошадей и коров). По выходным они могут приезжать сюда со своими детьми, могут ухаживать за животными, кататься на лошадях, доить коров, а в остальное время за животными будут ухаживать специально приставленные работники. С помощью датчиков и видеокамер, опять же, можно присматривать за своим хозяйством прямо из квартиры. Стоит это, уверяет Алексей Перфильев, не так уж и дорого. Главный вопрос – земля. На самом деле земли у нас в Сибири полным-полно. Вопрос лишь в том, как получить ее для такого хорошего дела. В принципе, вопрос этот решаемый, но только благодаря поддержке со стороны уважаемых людей, имеющих соответствующие связи и влияние.
Остается надеяться, что местные власти не станут создавать искусственных препятствий для такой инициативы. Ведь, как правильно заметил Алексей Перфильев, создание «умным» ферм – это не средство наживы. Это, прежде всего, один из инструментов развития территорий. Ведь, и в самом деле, «умная» ферма гораздо лучше заброшенного поля, поросшего бурьяном.
Олег Носков
- Подробнее о Куры на «аутсорсинге»
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии