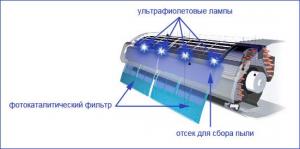Первые конкурсы Российского научного фонда будут объявлены уже 10 февраля
Российский научный фонд с февраля объявит первый конкурс на финансирование проектов для отдельных научных групп, сообщил на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС генеральный директор РНФ Александр Хлунов.
ЗАДАЧИ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА
Российский научный фонд создан в целях финансовой и организационной поддержки фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, подготовки научных кадров, развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определённой области науки.
Накануне попечительский совет РНФ определил принципы конкурсного отбора программ и проектов, которые будут поддерживаться фондом.
Пять направлений финансирования
По словам Хлунова, гранты 2014 года будут выделяться по пяти направлениям. "На пятимиллионное финансирование в год в течение трех-пяти лет могут претендовать малые научные коллективы. На такой же срок будет выдаваться до 20 млн рублей в год на поддержку программ существующих научных лабораторий в исследовательских или учебных центрах. Еще одно направление - поддержка программ вновь создаваемых лабораторий в размере 25 млн рублей в год. До 30 млн рублей в год могут получить международные коллективы, работающие над общей научной проблемой", - перечислил гендиректор РНФ.
Путин назначил Александра Хлунова гендиректором Российского научного фонда
Впервые в мире РНФ намерен применить еще один вид грантов. "Мы готовы платить за репутацию образовательного или научного института более 100 млн рублей в год, если его коллектив заявит намерение двигаться в прорывном направлении", - пояснил гендиректор фонда, добавив, что ежегодно может быть присуждено около 25 таких грантов.
Базовое финансирование науки сохраняется
Финансирование науки через Российский научный фонд (РНФ) не отменяет финансирование исследовательских организаций из госбюжета, заверил генеральный директор фонда. "Базовое финансирование для научных учреждений, в соответствии с законом о бюджете, обеспечено в полном объеме", - подчеркнул он. Хлунов также заявил, что катастрофические прогнозы относительно судьбы российской науки в результате реформы не сбылись. "Ни одного краха научного учреждения не осуществилось, - сказал Хлунов, - В январе ученые получили заработную плату в полном объеме".
"Главное - мониторинг результата"
Руководитель фонда заявил, что главное отличие РНФ от других действующих фондов и институтов, поддерживающих науку, заключается в том, что это "не бюджетное учреждение, а именно фонд". "Нам нет необходимости сосредотачиваться на отслеживании расходования средств, как это предписано законом для бюджетного учреждения. Для нас главное - не мониторинг процесса, а мониторинг полученного научного результата", - пояснил гендиректор РНФ.
Хлунов уточнил, что если получатель гранта не добьется результата, он не будет наказан. "Отрицательный результат в науке имеет право на существование, в таком случае экспертное сообщество вправе высказать рекомендацию - полученные деньги не отнимать, но финансирование не продолжать", - сказал он.
Кто может претендовать на получение грантов
На финансирование из РНФ могут претендовать как российские, так и зарубежные ученые, занимающиеся исследованиями в разных сферах. "Работы могут касаться механики, физики, математики, химии, истории, других областей, но они точно не должны быть связаны с государственной тайной, поскольку в обязательном порядке планы и результаты трудов будут публиковаться в интернете, что также гарантирует прозрачность деятельности фонда", - уточнил Хлунов. Он полагает, что определенную часть грантов получат ученые, с результатами исследований которых связаны ожидания общества. В качестве примера гендиректор РНФ привел медицинскую, биологическую и сельскохозяйственную тематику, заявив, что все жители планеты ждут появления новых лекарств от сложных болезней, экологически чистых продуктов и всего, что могло бы повысить качество жизни.
Претенденты на финансирование из РНФ должны подать заявку с перечислением уже полученных результатов и планов работ. Эти материалы будет рассматривать экспертное сообщество - признанные авторитеты из соответствующих областей знаний, в том числе из Российской Академии наук. Свои заключения они будут передавать в экспертный совет РНФ, а тот - рекомендовать принять или отклонить заявку правлению фонда.
Гранты не подразумевают софинансирования
Для получения грантов РНФ ученым не нужно будет искать деньги "на стороне", заверил гендиректор фонда. "Когда мы говорим о фундаментальных исследованиях, достаточно странно требовать от ученых где-то найти деньги - от промышленников или других людей ", - пояснил Хлунов.
Вместе с тем, по его словам, прорабатывается вопрос о том, чтобы эффективно использовать средства учредителей научных организаций - федеральных агентств или министерств. "Мы могли бы подумать, чтобы средства, которые имеются в федеральных органах власти, направленных на финансирование данного учреждения, могли бы как-то соединиться с поддержкой фонда", - сказал глава РНФ.
Хлунов заявил, что Российский научный фонд будет наполняться не только из госбюджета, но и из средств частных компаний - как российских, так и иностранных. "Если частная фирма заинтересована в научном изучении определенного вопроса, его разработку можно заказать через РНФ. В этом случае "спонсор" получит право участвовать или следить за отбором проектов, их экспертизой, то есть иметь реальный контроль "изнутри" за полученным результатом", - пояснил он.
В федеральном бюджете предусмотрено, что в 2014 году Российский научный фонд получит 11,4 млрд рублей, в 2015 - 17,2 млрд рублей, в 2016 - 19,1 млрд рублей.
Состав попечительского совета РНФ
Фонд был создан по инициативе президента РФ в ноябре 2013, его деятельность регулируется отдельным федеральным законом.
Попечительский совет РНФ возглавляет помощник президента РФ Андрей Фурсенко, в состав совета, в частности, входят экс-министр финансов Алексей Кудрин, министр образования и науки Дмитрий Ливанов, ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов, научный руководитель Института медико-биологических проблем РАН Анатолий Григорьев, замдиректора Российского онкологического научного центра им.Н.Н.Блохина РАМН Михаил Личиницер, директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко, директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
Годовой отчет о работе фонда представляется президенту РФ и в правительство России.
- Подробнее о Первые конкурсы Российского научного фонда будут объявлены уже 10 февраля
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии