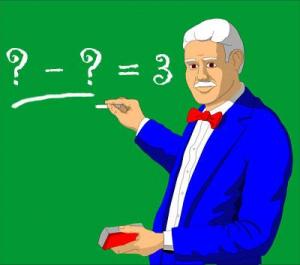Известный историк российской науки показывает, как иррациональные и мистические идеи могут вдохновлять ученых, работающих в самых что ни на есть рациональных науках.
История российской и советской науки — предмет многолетних исследований профессора Гарвардского университета и Массачусетского технологического института Лорена Грэхэма. К примеру, он автор уже ставшей классической монографии «Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе». Недавно вышли «Очерки истории российской и советской науки» и «Наука в новой России: Кризис, помощь, реформы»* — как пишут авторы, в этой книге исследуется «драма, по сюжету которой одно из крупнейших в мире научных сообществ оказалось в разительно ином политическом, социальном и экономическом окружении, чем то, в котором происходило его становление».
Недавно Грэхэм приезжал в Россию на презентацию своей новой книги «Имена бесконечности: правдивая история о религиозном мистицизме и математическом творчестве», написанной в соавторстве с Жан-Мишелем Кантором. Посвящена она истории возникновения и развития Московского математического общества, у истоков которого стояли великие математики и философы Флоренский, Егоров, Лузин — последователи имяславия, полузабытого религиозного движения.
История взаимоотношений науки и религии стара, как сами наука и религия. В ней были периоды взаимопроникновения и взаимоотталкивания. Однако бесспорно, что они всегда влияли друг на друга. Как писал Эйнштейн, «наука может развиваться только теми, кто полностью впитал в себя стремление к истине и пониманию. Это стремление, однако, проистекает из сферы религии. Эту ситуацию можно выразить афоризмом: наука без религии хрома, религия без науки слепа». Авторы книги «Имена бесконечности» нерелигиозные люди, но они задаются вопросом: откуда приходят математические идеи? И показывают, что их источником могут быть и религиозные воззрения, и атеизм.
Нашу беседу с господином Грэхэмом мы начали с вопроса о будущем российской науки.
— Когда в конце девяностых мы начали заниматься научной журналистикой, одним из главных наших мотивов было поймать ускользающую натуру большой советской науки. С точки зрения истории науки это была уникальная ситуация — наблюдать, как одни люди, школы, институты разрушаются, а другие адаптируются к новым реалиям. И все эти годы нас мучил вопрос: есть ли у России надежда на новый научный ренессанс?
— Прежде всего хочу сказать, что я испытываю очень глубокое уважение к российской науке, к советской науке, и, безусловно, эта наука не умерла. Тем не менее задача, которая стоит сейчас перед российской наукой, на мой взгляд, еще сложнее, чем вы описали. Потому что надо не просто спасти или возродить советскую науку, а трансформировать ее в соответствии с новыми реалиями. Как бы ни была хороша советская наука, она не вполне соответствует задачам сегодняшнего дня. Сильные стороны России всегда заключались в развитии фундаментальных наук: математики, физики. А слабые — в недостатке коммерческого использования достижений науки. Сейчас, например, Россия экспортирует высокие технологии примерно на уровне одной четвертой от объема высокотехнологичного экспорта совсем небольшой Швейцарии. И в советские времена с экспортом высоких технологий дела обстояли не лучше. Поэтому надо трансформировать науку таким образом, чтобы она стала активным игроком на мировом рынке.
Совсем недавно я занимался историей науки о лазерах. И вы, наверное, лучше меня знаете, что российские ученые Басов и Прохоров получили за это открытие Нобелевскую премию вместе со своим американским коллегой Таунсом. А какова доля России на мировом рынке в области производства лазеров? Всего один процент. И это огромный парадокс.
— А почему так происходит? Почему российская наука была так сильна в фундаментальной области и так слаба в прикладной? Может быть, одна из причин в том, что после создания атомной бомбы в 1961 году из Академии наук были исключены прикладные институты и направления и ученые сосредоточились на фундаментальной науке? Вы, в частности, в своей книге «Очерки истории российской и советской науки» рассказываете о дискуссии, которая в шестидесятые годы разгорелась между академиками Семеновым и Бардиным, о месте и роли прикладной науки в академии.
— Да, это действительно одна из причин. Но далеко не главная. Проблема не в науке и технологиях как таковых, они замечательные. Проблема в обществе, которое не создает необходимую среду для бизнеса, заинтересованного в развитии науки. Это и законодательство в области интеллектуальной собственности. И отношение общества к бизнесу: воспринимается ли бизнес как что-то грязное и неприличное или как достойное занятие для людей. И взаимоотношения между наукой и образованием, между Академией наук и университетами: насколько они разобщены. И социальная мобильность людей.
Почему, скажем, возникла Кремниевая долина? Не потому, что правительство США решило, что здесь мы будем создавать центр модернизации, центр современных технологий, а потому, что по всей стране наиболее успешные, предприимчивые инженеры, технологи задались вопросом: где я могу с наибольшей вероятностью добиться успеха? И отправились туда. Например, Марк Цукерберг, создатель Facebook, обучался в Гарварде. Но когда он создавал свою компанию, он переехал в Калифорнию. Я сам профессор Гарварда и в Массачусетского технологического института на Восточном побережье США. Я помню, нам решение Цукерберга не нравилось. Но он сказал: для меня Калифорния лучше.
— В России университеты и наука долгое время были слабо связаны, и сейчас в образовательном и академическом сообществе идет дискуссия, как этот разрыв преодолеть.
— Это действительно так, и это результат сознательно выбранной стратегии развития науки. Еще в 1926 году постоянный секретарь Академии наук Сергей Федорович Ольденбург написал, что «если XVIII столетие было веком академий, а XIX столетие веком университетов, то XX столетие становится веком научно-исследовательских институтов». И некоторое время действительно казалось, что создание сетей таких научных институтов — всемирная тенденция. Однако с течением времени привлекательность научных институтов начала падать. Среди академических руководителей на Западе крепло убеждение, что научно-исследовательская работа не только не помеха для преподавательской, а фактически стимулирует ее. В США предпочтение, отдаваемое исследовательским университетам перед научными институтами как месте для обучения и научных исследований, за последние десятилетия становится все более очевидным1.
Собственная история науки Советского Союза дала пример важности сочетания преподавания и научно-исследовательской работы даже на самом начальном уровне — на уровне первокурсников, но, к несчастью, этот пример не был замечен. У истоков Московской математической школы, о которой я пишу в нашей с Жан-Мишелем Кантором книге «Имена бесконечности», стояла группа студентов Московского университета, сплотившихся вокруг двух профессоров — Дмитрия Егорова и Николая Лузина — в начале двадцатых годов прошлого века. Эту группу сегодня вспоминают как легендарную «Лузитанию».
Можно сказать, что вопросы соотношения научно-исследовательской работы и обучения сложны и простых ответов на них нет. Однако исторические свидетельства в начале двадцать первого века показывают, что в последнее время американская система действовала лучше советской, и эти свидетельства играют, насколько я знаю, немаловажную роль в дискуссиях о науке в современной России. И мы с Ириной Дежиной из Института мировой экономики и международных отношений РАН тоже обсуждаем этот вопрос в нашей совместной книге.
— Сейчас ситуация меняется, но многие воспринимают как большую угрозу то, что университеты становятся еще и коммерческими предприятиями, занимаются предпринимательством, классическая университетская концепция разрушается…
— Я понимаю, почему этот вопрос волнует людей. Здесь нужно найти очень тонкий баланс, чтобы коммерческие отношения, которые возникают между университетом и разными фирмами, способствовали приращению знания в университетах. И чтобы одно не подавляло другое. В качестве примера такого умения я бы привел Массачусетский технологический институт, который очень активно занимается коммерциализацией своих проектов, сохраняя при этом высокий академический уровень.
Но в России я недавно столкнулся, например, с таким явлением, которое у нас в институте было бы категорически запрещено. На факультете компьютерных технологий одного из известных российских университетов профессор, который там работает, сказал мне, что у него есть своя компания, которая создает программное обеспечение. Я спросил: «Где?» — «А вот здесь, прямо в университете». — «А где же ваше оборудование?» — «Это университетское оборудование». — «А кто ваши сотрудники?» — «Студенты, аспиранты». И я, конечно, задал вопрос: а как же насчет того, чтобы платить университету за электричество, за другие коммунальные услуги, за использование оборудования, за использование студентов. Получается, что человек свою частную компанию основал на территории другого юридического лица, ни в какие отношения с ним не вступая и ничего не выплачивая. Но его ответ был такой: я ничего не должен университету, наоборот, университет должен мною гордиться. Потому что перед нами была поставлена задача коммерциализации, и вот я этим и занимаюсь. В Массачусетском институте такую фирму, естественно, попросили бы выехать за пределы университета. И поэтому сейчас вокруг Массачусетского университета очень много зданий частных компаний.
 Фото: Александр Забрин
Фото: Александр Забрин
— А что вы думаете о таком феномене, как научная школа, который столь сильно был развит в России, в Европе в меньшей степени, а в Америке еще слабее? Сейчас, похоже, этот феномен исчезает вообще?
— Я с большим уважением отношусь к российским научным школам. Это и Московская математическая школа, которую основал Егоров, и школа Капицы, школа Иоффе, школа Семенова и так далее. Но у меня такое чувство, что их время уходит. Хотя они оказали сильное и положительное влияние на развитие науки, особенно здесь, в России. Но сейчас есть много очень умных, образованных, талантливых людей, ученых, которые как бы восстают против школ. Они говорят: у нас другой путь. И это сложная проблема. С одной стороны, необходимо сохранять определенные традиции — традиции мастерства профессиональных ученых, которые накапливаются именно в научных школах. Но, с другой стороны, мы ведь хотим, чтобы молодые совершали свои прорывы и чтобы они, оставаясь благодарными этим школам, все же шли своим путем.
— Как вы относитесь к проекту «Сколково»? В нашем журнале, в частности, были опубликованы ваши критические соображения по поводу того, что в Сколковском институте, который создается вместе с MIT, не будет бакалавриата и он, таким образом, не будет полноценным университетом.
— Я до сих пор придерживаюсь этой точки зрения. Но давайте я несколько в более общем плане прокомментирую этот проект. Я искренне надеюсь, что проект «Сколково» достигнет успеха, потому что и Россия, и весь мир только выиграют от того, что Россия будет более активно участвовать в развитии современных технологий. Но, к сожалению, у меня есть сомнения. На протяжении всей своей истории Россия пыталась провести модернизацию, получив в свои руки самые последние технологии. Но этого недостаточно. Я уже говорил, что с советской наукой и технологиями проблем не было. Проблема заключалась в самом обществе. На мой взгляд, Сколково — это очередная попытка что-то изменить, что-то сделать на таком небольшом изолированном островке, не меняя по сути самого общества.
— Может быть, ученым нужно начинать играть более активную политическую роль?
— Я считаю, что это было бы на пользу России, если бы ученые более активно участвовали в политической жизни. Но еще более важно изменение всего общества. Программа индустриализации, которая была реализована в сталинские времена, была очень успешной. Но модернизацией она не являлась. В итоге возникло индустриализованное, но не модернизированное общество.
— Тогда, может быть, вы объясните разницу между индустриализацией и модернизацией? Модернизация — это то, что происходит не только в рамках науки, промышленности, технологий?
— Да. В качестве примера можно привести великие и большие проекты, которые реализовывались в ходе индустриализации, но при этом не имели разумного экономического обоснования, например на Севере, где неоправданно велики инфраструктурные издержки. И мне кажется, что главная причина этого в том, что все создавалось по указанию сверху, а не в результате органического роста, который шел бы снизу. Так, как создавалась Кремниевая долина. Потому что место для Кремниевой долины нельзя выбрать приказом сверху. Нужно создать такую обстановку, такую атмосферу, такие условия, которые способствовали бы ее появлению. И я очень надеюсь, что сейчас Россия сможет использовать шанс одновременно провести и индустриализацию, и модернизацию.
— В Советском Союзе роль науки в определенной мере преувеличивалась идеологической машиной, возможно, потому, что сама власть претендовала на владение научной теорией общественного устройства. Соответственно, очень высок был социальный статус ученых. Тогда как в той же Америке до атомной бомбы и социальный статус ученого, и идеологическая роль науки не были столь значимыми.
— Я с этим согласен. Но это было связано в том числе с тем, что в советском обществе государство, правительство, партия контролировали практически все аспекты человеческой жизни — в каких квартирах люди живут, какую они носят одежду, что едят. В таких условиях партии и правительству было легко поощрять, например, тех ученых, которых они считали нужным поощрять. А в Соединенных Штатах что правительство могло сделать? Только немного больше платить, все остальное — это уже был свободный выбор человека.
На меня очень сильное впечатление всегда производило то, насколько большая, замечательная научная работа проделывалась здесь, в Советском Союзе, в те времена. Даже в тех же специальных лагерях. Достаточно вспомнить примеры Королева и Туполева. Я восхищаюсь этими людьми.
Но я бы хотел сказать, что проблемы отношения власти и ученых существуют практически во всех обществах, в том числе в том, в котором я живу. Просто вам пришлось столкнуться с этими проблемами в гораздо более острой и более трагической форме. Ведь и у нас, в Соединенных Штатах, во время правления Буша, были ограничены исследования, связанные со стволовыми клетками. У нас тоже происходят дискуссии между ярыми сторонниками религиозного подхода в этом вопросе и учеными. К счастью, наши дискуссии не заканчиваются так трагично, как это было у вас.
— Тем не менее в одной из ваших книг говорится об эвристической ценности марксистско-ленинской философии для развития ряда направлений фундаментальной науки.
— С моей точки зрения, марксизм-ленинизм где-то помог, а где-то стал препятствием для науки. Самый наглядный пример — история с Лысенко. Это тот случай, где марксистско-ленинская идеология помешала. Но в других случаях — и я в своей книге это указывал — марксистско-ленинская философия помогала развитию науки. Вообще, в отношениях между наукой и идеологией очень много неожиданностей. Например, в книге «Имена бесконечности», о которой я уже сказал, я описываю, как одно из православных религиозных течений — имяславие — оказало очень важное влияние на развитие Московской математической школы. Взаимоотношения между идеологией и наукой непростые. И их нужно изучать и исследовать очень тщательно.
— Не могли бы вы немного подробнее рассказать о связи имяславия и математики?
— В конце девятнадцатого — начале двадцатого века в математике возник кризис, связанный с появлением теории множеств, у истоков которой стояли немецкие и французские математики, — в частности с определением того, что такое математический объект. Известный французский математик Анри Лебег задался в 1905 году вопросом: можно ли доказать существование математического объекта, не определяя его? Русский религиозный философ, последователь имяславия Павел Флоренский считал этот вопрос аналогичным такому: можно ли доказать существование Бога, не определяя Его? Ответом для Флоренского — а позже для основателей Московской математической школы Егорова и Лузина, которые дружили с Флоренским и тоже были имяславцами, — было то, что акт именования сам по себе давал объекту существование. «Именование» стало ключом как для имяславия, так и для математики. Имяславцы давали существование Богу, славя Его имя; математики давали существование множествам, именуя их.
Идея о том, что «имя» содержит в себе нечто большее, нежели просто слово, очень стара. В конце концов, логос — центральное понятие западной культуры. У имяславцев эта идея слилась с мистической традицией и превратилась в веру в то, что, именуя Бога и Христа, верующий сливается с Богом или подступает к Божественному настолько близко, насколько это для него возможно. Современная теория функций, разработанная Бэром и Лебегом после появления теории множеств, привела Лебега к распространению понятия функции с аналитических выражений ранней математики на функции, которые только описаны или поименованы (nommees). Сделав акцент на «именовании», Лебег дал стимул русским математикам, которые благодаря имяславию сумели рассмотреть аналогичную проблему, обнаружив после 1916 года новую иерархию подмножеств континуума.
Достичь этого, вероятно, можно было и без участия религиозного учения, но, сохраняя верность историческим свидетельствам, можно утверждать, что это случилось именно в контексте имяславия.
— Как бы вы вообще оценили связь науки и религии?
— История демонстрирует нам, что религиозная вера, по крайней мере в отдельных случаях, способствует научному творчеству. Всякий, кто знаком с научными трудами и религиозным воззрением Исаака Ньютона или Блеза Паскаля, найдет тому подтверждение. Конечно, религия может и противоречить науке, причем весьма драматично и даже гибельно, о чем свидетельствуют споры вокруг имен Галилея и Дарвина. Что касается истории Московской математической школы, то, я считаю, имяславие способствовало математическому творчеству. Но надо напомнить, что известен эпизод, когда математическому творчеству помог атеизм: разработка Марковым «цепей Маркова» стала ответом на попытки его коллеги Некрасова оправдать богословское понятие доброй воли. С интеллектуальной точки зрения взгляды Маркова ничуть не уступают взглядам имяславцев. В этих двух случаях, Маркова и Егорова—Лузина, две противоположные точки зрения, атеизм и религия, в равной степени способствовали творческим достижениям математиков.
По моему мнению, было бы большим упрощением настаивать на неотъемлемо «конфликтных» или, наоборот, на неотъемлемо «гармоничных» отношениях науки и религии. Необходимо исследовать контекст и детали каждого отдельного случая, не предрешая априори его решение.
— А можно ли сказать, что научная парадигма метаидеологична? Что она может использовать любую из существующих идеологий в своих интересах?
— Я повторю, что отношения очень сложные. Например, в США до сих пор среди христиан много людей, которые не признают дарвинистское учение. И иногда эти отношения идут на пользу, иногда они идут во вред. Но они всегда присутствуют.
И я очень сомневаюсь, что наука, научное развитие может существовать вне всякой идеологии, вне какой-то культурной, религиозной, философской основы. Хотя я не могу доказать свою точку зрения. Дело в том, что даже отсутствие всякой идеологии — это тоже своего рода идеология.
— Хороший пример — неопозитивизм и философия Венского кружка с его эмпиризмом и негативным отношением к традиционной «метафизике».
— С моей точки зрения, в их взглядах тоже заключена определенная идеология. Но, как вы, наверное, знаете, сейчас популярность этих взглядов значительно снизилась. И сейчас гораздо меньше абсолютных позитивистов, чем, скажем, тридцать-сорок лет назад.
На мой взгляд, самая идеальная ситуация — свобода, когда и приверженцы религиозных доктрин, и марксисты, и позитивисты говорят то, что считают нужным. И каждый творит в обстановке мультикультурализма.
— Известен тезис Поля Формана, что чуждая принципу причинности, иррациональная культурная и интеллектуальная среда, характерная для поздней Веймарской республики, способствовала созданию акаузальной квантовой теории.
— Это просто лишний раз показывает, сколь сложны взаимоотношения между идеологией, философией и наукой. И Поль Форман показал, как иррационализм той эпохи влиял на создателей квантовой теории. А, например, Исаак Ньютон гораздо больше интересовался алхимией, чем физикой.
— И толкованием Святого Писания.
— Да. Если изучать историю науки, то можно увидеть, что всегда, когда происходил какой-то прорыв (это видно и на примере квантовой теории, и, скажем, теории эволюции), налицо было очень сложное взаимодействие рационального и иррационального. Часто, когда ученый стоит на пороге какого-то большого открытия, он чувствует неуверенность в своей правоте, потому что это новое не похоже на то, что было общепринято. И для того, чтобы сделать шаг к этому непохожему, к этому чему-то другому, ему требуется опора, которую он находит в иррациональном. Хотя часто уже после того, как этот шаг сделан, совершено какое-то открытие или выдвинута какая-то новая теория, историки начинают говорить, что для этого совсем не обязательно было иметь какие-то отношения с религией или философией. И логически они совершенно правы. Но что-то ведь заставило этого ученого сделать этот шаг?
— Именно так говорил Эйнштейн: вначале озарение, а уже после него логическая редукция.
— Безусловно, то же происходило и с Эйнштейном. Когда он подошел вплотную к теории относительности, он стал активно читать разных философов, прежде всего пантеиста Спинозу, потому что ему требовалось как-то подкрепить свою дальнейшую работу философским основанием.
— Господин Грэхэм, а нет ли в работе историка науки такой же интересной игры между рациональным и иррациональным? Как вы выбираете свои сюжеты, что это — чисто рациональный выбор или какая-то иррациональная симпатия?
— Я человек нерелигиозный, но когда я прочитал, что писали основатели Московской математической школы Егоров и Лузин о воздействии религии на развитие их научной мысли, это пробудило во мне очень сильные эмоции. И мне захотелось, чтобы и другие люди испытали такой же эмоциональный подъем, как и я. Если считать мои эмоции чем-то иррациональным, значит, это было то иррациональное, что способствовало выбору этой темы.