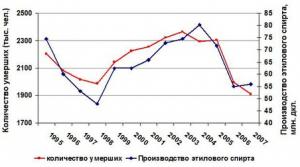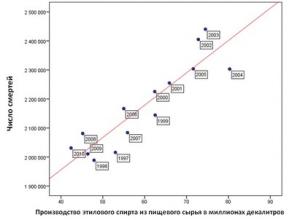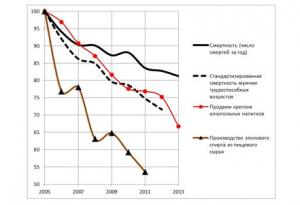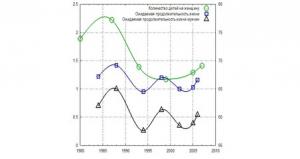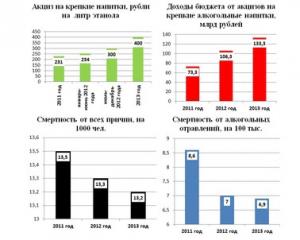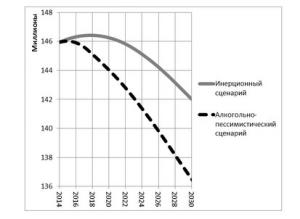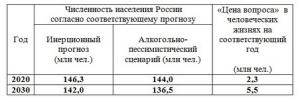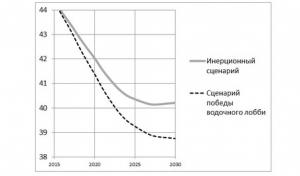«Закрутим гайки — и пена уйдет»
О том, какие задачи стоят перед Высшей аттестационной комиссией, мы поговорили с докт. физ.-мат. наук, председателем ВАК, ректором РУДН Владимиром Филипповым. Беседовала Наталия Демина.
— Владимир Михайлович, давайте на минуту представим, что в России нет системы научной аттестации, а Вы ее создаете с нуля. Какой Вы ее себе видите? Какой она должна быть?
— Вы знаете, когда мы говорим «научная аттестация», то она в своем идеале должна означать признание ученой степени или ученого звания научным сообществом. И в этих словах нет ни слова о роли государства. Ученые сами принимают решение, достоин ли их коллега ученой степени, и потом уже с помощью каких-то дальнейших механизмов, допустим в рамках того же вуза или института, соискатель получает документ о присвоении ему степени доктора или кандидата наук. То есть это та система, которая развита практически во всех странах мира, когда степень или звание присваивают сами университеты.
Но для этого, подчеркиваю, нужно иметь очень хорошее, демократически развитое научное сообщество с высокой степенью репутационной ответственности всех участвующих в присуждении степеней и званий. Начиная от аспиранта, его научного руководителя, до бизнесменов, депутатов и министров, которые пытаются получить степень кандидата или доктора наук. Когда такая репутационная ответственность в стране будет, тогда мы сможем переходить на новую систему аттестации. Сколько лет на это потребуется, я не знаю. <…>
— Я попыталась собрать вопросы к Вам среди ученых. Один из наиболее частых — нужен ли ВАК? Скажите, зачем в настоящее время нужен ВАК?
— На данном этапе ВАК очень нужен, потому что к вышеописанному идеалу мы пока перейти не можем. К сожалению, в России еще многие ученые недобросовестно ставят свои подписи под фальшивой диссертацией как официальные оппоненты, как ведущие организации, как научные руководители или научные консультанты. И пока они никакой серьезной репутационной ответственности за это не несут. И поэтому за этой системой подготовки и защиты диссертаций нужен контроль в виде экспертов ВАК.
ВАК — Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки России, это — общественная комиссия, утверждаемая, правда, на высоком уровне — постановлением правительства России, состоящая из научных экспертов, там нет чиновников. Кроме того, подчеркну, что в ВАК нет ни одного штатного работника — бюрократическую (в хорошем смысле слова) работу ВАК обеспечивает соответствующий департамент Мин-обрнауки, поскольку ВАК создан при Минобрнауки России.
Все члены ВАК имеют основную работу в своих университетах, академических институтах и других научно-образовательных центрах. Так что ВАК — это такое экспертное сообщество: 73 члена ВАК и около 1,5 тыс. членов экспертных советов ВАК, члены которого оценивают качество подготовленных диссертаций, их соответствие современным требованиям, а также ВАК наблюдает за качеством системы ат тестации научных кадров — за диссоветами, которые присваивают степени, за совокупностью тех отзывов, которые готовят оппоненты, ведущие организации, научные руководители. Уверен, что на данном этапе в нашей стране такой контроль за качеством подготовки диссертаций просто необходим, и все дискуссии о необходимости повышения качества системы аттестации научных кадров в нашей стране, качества диссертационных исследований только подтверждают это.
— Представим, что в начале 2015 года появилась новая область науки. Через какое время появятся кандидаты и доктора наук по этой специальности? Как быстро ВАК перестроится под эту новую науку?
— С одной стороны, система аттестации научных кадров в нашей стране консервативна в этом отношении. Потому что перечень научных специальностей в целом должен быть стабильным. Как только меняется хотя бы одно слово в названии научной специальности, надо пересматривать те диссоветы, за которыми по ней закреплено присуждение ученой степени. <…>
С другой стороны, когда Минобрнауки раз в 7-8 лет пересматривает перечень научных специальностей, то оно иногда поддается убеждениям крупных академиков, ученых, которые говорят, что есть такая-то новая востребованная научная отрасль и ее надо вписать в перечень научных специальностей. Почему я об этом говорю? Потому что у нас до сих пор есть около 10 научных специальностей в ВАК, которые были утверждены 5 лет назад, но за эти годы по этим специальностям не было ни одной защиты!
— А можете назвать хотя бы одну?
— Например, за 2008-2014 годы не было в стране ни одной докторской диссертации по таким научным специальностям, как «Химия высоких энергий», «Акустические приборы и системы», «Политическая психология», «Физические поля корабля, океана, атмосферы и их взаимодействие». Более того, у нас по некоторым действующим научным специальностям даже нет диссертационных советов, никто не заявился. Потому что ученых хорошего уровня по данным специальностям в России нет. Кто-то пролоббировал эти специальности, а запроса на них нет.
Поэтому, с одной стороны, система должна быть достаточно консервативной, а с другой стороны, создавать более гибкие механизмы защиты диссертации на стыке двух-трех специальностей. Здесь пока тоже много лишней бюрократии. Надо дополнительно вводить в диссертационный совет людей с другой научной специальностью. В ВАК междисциплинарные диссертации проходят через два-три экспертных совета, также задействовано достаточно много бюрократии. Но жизнь требует, чтобы мы все-таки шли по пути междисциплинарных исследований.
Не случайно сейчас под эгидой А.А. Фурсенко, помощника президента, создана специальная комиссия во главе с М.В. Ковальчуком по междисциплинарному образованию и научным исследованиям при Совете по науке при Президенте РФ. Эта комиссия как раз рассматривает устранение тех барьеров, которые препятствуют развитию междисциплинарных исследований. Так, в частности, одной из, я считаю, очень прогрессивных идей самого М.В. Ковальчука является идея о необходимости развития и поддержки конвергенции наук и технологий, актуальнейшая на сегодня проблема для будущего развития не только науки и технологий, но и всего современного общества, в частности, и в гуманитарных областях знаний. Конвергенция наук — это не просто междисциплинарность, а глубочайшее взаимопроникновение. Такому взаимопроникновению очень многое сейчас мешает.
Например, наверное, мы в России допустили слабину, когда пошли на то, чтобы ввести решением правительства РФ присвоение ученых званий доцента и профессора по узкой научной специальности. Теперь ученый не просто доцент, профессор физики или химии, а по одной из 10–15 узких научных специальностей в рамках физики. А надо было написать «профессор физики», «доцент химии» и т.п.
Более того, подчеркиваю, не только весь мир, но и многие бывшие республики СССР пошли по этому пути. И Белоруссия, и Украина, и Азербайджан, и Армения присуждают ученые звания по укрупненным группам специальностей. А мы решили присуждать звания «профессор» и «доцент» по узкой научной специальности. Наверное, этот шаг не способствует развитию междисциплинарных научных исследований, конвергенции наук и технологий, но это решение еще можно исправить.
— Можно ли сказать, что кардинальная перестройка работы ВАК началась после того, как грянул Диссергейт и как появился Диссернет? Или Вы никак не связываете скандал с фальшивыми диссертациями с перестройкой системы аттестации и последующим Вашим назначением на пост главы ВАК?
— Конечно, поводом было вскрытие того гноя, который образовался. И рано или поздно этот пузырь гноя бы обнаружился. Он обнаружился на уровне экспертного совета ВАК по истории и на уровне известного диссовета при МГПУ. Естественно, этот гной обратил на себя внимание всего общества. Оказалось, что под руководством председателя диссовета по истории, а по совместительству зампреда экспертного совета ВАК была выстроена целая коррупционная схема. И все поняли, что такие схемы надо не только разрушить, но и принять системные меры по недопущению подобного впредь.
Но с другой стороны, я считаю, что, при всей помощи Диссернета в обнаружении конкретных фактов, ключевой была встреча 26 марта 2013 года, уже после моего назначения председателем ВАК, председателя правительства РФ Д.А. Медведева в Физтехе с группой ученых, с руководством Минобрнауки и РАН. Председатель правительства тогда поддержал целый ряд направлений реформирования системы научной аттестации, которые мы предложили, в том числе и пилотный проект по самостоятельности ведущих вузов и научных учреждений в присвоении ученых степеней. И поддержал главное — что надо использовать не только государственный механизм аттестации, но и репутационную ответственность самих ученых.
Мне особо запомнилась самая последняя его фраза: «А вообще, я хотел бы сказать вам: закручивайте гайки — и пена уйдет». И вот недавно, когда я делал доклад на Общественном совете при Министерстве, то вспомнил эти слова на конкретных цифрах и фактах. В 2012 году в ВАК поступило более 30 тыс. диссертаций. В 2013 году, через год, гораздо меньше — 18 тыс. диссертаций. А в 2014 году — примерно 15 тыс. диссертаций. То есть за два года количество диссертаций снизилось в два раза. Я сразу подумал, что вот она, эта «пена», вот она была — «лишние» 10–15 тысяч диссертаций в год! Те ненужные диссертации чиновников, бизнесменов.
— На Общественном совете при Минобрнауки прозвучали в деловом режиме, а на следующей день стали сенсацией Ваши слова, что ВАК лишил степени доктора экономических наук Елену Скрынник, бывшего министра сельского хозяйства.
— Экспертный совет ВАК неоднократно рассматривал ее диссертацию, более того, неоднократно посылались приглашения в адрес Е.Б. Скрынник прийти на заседания, но она не пришла. Оказалось, что целый ряд страниц ее диссертации имеют неправомерные заимствования, не содержали необходимых ссылок. Мы не говорим, что это плагиат, потому что наличие плагиата определяется лишь решением суда, но то, что эти факты неправомерного заимствования имеют место, было подтверждено и заключением экспертного совета ВАК по экономическим наукам. Эти нарушения являются серьезными нарушениями Положения о порядке присуждения ученых степеней.
— Елена Скрынник — бывший министр. Но хватит ли независимости у ВАК, чтобы лишить степени действующего министра или депутата? Возможно ли такое? Или звонок сверху — и ВАК будет вынужден «забыть» о неправомерных заимствованиях?
— Если у человека в диссертации есть явно неправомерные заимствования, то в этом отношении Д.В. Ливанов настроен достаточно решительно и настраивает нас такую же решительность. Яркий тому пример — бывший ректор РГСУ Л.В. Федякина.Были очевидные факты неправомер
ного заимствования в ее диссертации, эксперты сделали свое заключение, но срок давности уже истек. Тогда министр снял ректора с работы. Подчеркиваю, даже за пределами срока.
Поэтому, если есть факт неправомерного заимствования и его никуда не денешь, задача экспертов это выявить и констатировать. А дальше уже, подчеркиваю, а) либо вступает нормативный акт о лишении степени, как в случае с Е.Б. Скрынник, либо б) если срок давности уже прошел, то это дело работодателя, не только нашего министра Д.В. Ливанова, но и других, принимать решение, оставить ли этого человека с клеймом плагиатора на всю жизнь и ущербом для репутации данной организации или все-таки его уволить. Мы пытаемся активно лоббировать позицию, чтобы в случае фальшивых диссертаций репутационную ответственность несли не только ученые, но и сами организации. И здесь Д.В. Ливанов показал замечательный пример.
— Если коллеги из Диссернета говорят, что у действующего ректора того или иного вуза в диссертации есть неправомерные заимствования, как Вы к этому относитесь? Правильно ли я поняла Вашу позицию, что, пока экспертный совет ВАК этот случай не рассмотрел, человек считается «невиновным»?
— Конечно. К сожалению, система Диссернета несовершенна. Там если человек ссылается на свои же работы, и это иногда считается заимствованием. Человек ссылается на работы, которые выполнялись его учениками, возможно вместе, в одной научной школе. Это тоже неоднократно было выяснено при детальном анализе. Сами ученики писали, что мы всё это апробировали вместе в эксперименте и так далее. Не говоря уже о том, что есть некоторые общие факты, которые берутся из какой-то энциклопедии и там прописываются. Это антиплагиатом считается неправомерным заимствованием. Поэтому без детального анализа вывода сделать никак нельзя.
И тем более по социально-экономическим и гуманитарным наукам. Там действительно мысль, которая излагается, бывает тривиальной. Даже, подчеркиваю, в некоторых юридических диссертациях, потому что там часто идут ссылки на нормативную базу. И чуть в каком-то месте известную концепцию изложишь, но не поставишь кавычки, а это оказывается из текста какого-то известного нормативного акта. А эта норма дублируется уже в десятке диссертаций. И при проверке окажется, что это неправомерные заимствования, что это взято из таких-то диссертаций.
Поэтому, конечно, требуется тщательный анализ. Как я уже говорил, за прошлый год в ВАК поступило 24 официальных заявления из Диссернета, 16 находятся на рассмотрении экспертных советов. Половина из них в двух советах по экономике. По 4 случаям было принято решение о лишении степени, по 4 случаям было принято решение об отказе в лишении степени. Поэтому 24 официальных обращения Диссернета в ВАК, которые поступили о лишении степени, — это очень немного в масштабах бедствий, которые были.
— Вы готовы к сотрудничеству с Диссернетом или считаете, что должны держаться независимо? Как должно быть организовано взаимодействие научного сообщества, Диссернета и ВАК?
— Деятельность ВАК регламентирована нормами, которые нам предписаны правительством РФ, в рамках двух основных документов. Это Положение о Высшей аттестационной комиссии и Положение о порядке присуждения ученых степеней, в рамках которых мы действуем и не можем выйти за их пределы.
Скажем, мы хотим пригласить какого-то соискателя на заседание экспертного совета ВАК, чтобы выяснить — а сам ли он написал диссертацию, или ему за деньги написали хорошую работу. По новым положениям, уже нельзя пригласить человека на заседание экспертного совета ВАК (мы можем приглашать только на заседание Президиума ВАК, но там за одно трехчасовое заседание проходит 150–200 диссертаций).
Аналогично, мы не можем действовать по своей инициативе: прочитали информацию в Диссернете и приняли меры. Мы можем действовать только тогда, когда к нам поступит по форме написанное заявление, апелляция. Это не означает, что по итогам опубликованной информации в Диссернете какая-то группа ученых не может сделать заключение, что это действительно плагиат, или разгромить диссертацию этого соискателя научной степени в пух и прах. Пусть тогда уже об этом узнает научное сообщество и работодатели этого человека.
Я думаю, что многим ректорам вузов будет неприятно, если работа их профессоров будет раскритикована в Диссернете на всю страну, ведь этому профессору потом преподавать в университете студентам. Я думаю, что думающие о своей репутации вузы постараются избавиться как можно быстрее от такого профессора.
Поэтому подчеркиваю, что в своей работе ВАК жестко регламентирована. Мы не можем брать информацию выборочно из Диссернета. Тогда нам скажут, а почему вы не берете 90% другой? Здесь нельзя идти таким путем. Только строго по поступившим в ВАК заявлениям.
Стоит сказать о том, что Д.В. Ливанов привлек людей, которые активно работают именно с Диссернетом, в частности, в Общественный совет при Минобрнауки входит М.С. Гельфанд, который является активным участником работы по Диссернету. Не случайно на этом Общественном совете как раз по предложению М.С. Гельфанда заслушивался мой доклад как председателя ВАК.
С другой стороны, когда по итогам такой информации Диссернета по экономическим диссертациям группа экономистов во главе с А.А. Аузаном, деканом экономического факультета МГУ, обратилась к Д.В. Ливанову, министр создал рабочую группу во главе с А.А. Аузаном, поручил ей внимательно проанализировать информацию из Диссернета.
В итоге они представили свои предложения по группе диссертаций примерно 40 человек, градуировали ее на 5 уровней, что вот эти ученые точно допустили неоднократные серьезные нарушения и их надо выводить из экспертных советов ВАК, а по этим коллегам нужно провести дополнительное исследование, а вот здесь можно допустить, что ученые не могли проверить работы, когда были оппонентами, ведь тогда еще не было автоматической системы «Антиплагиат». И так далее.
По итогам этой работы министр пошел, во-первых, на то, что были выведены из состава экспертных советов ВАК в совокупности около 40 человек. Из них большая часть те, кого рекомендовала группа А.А. Аузана. Министр на этом не остановился и сказал, что раз эта работа получилась, то давайте мы теперь найдем механизм, чтобы рабочая группа А.А. Аузана работала и дальше с материалами Диссернета. И они приступили к работе по диссертациям в области педагогических, психологических, политологических и медицинских наук.
Но подчеркиваю, эта группа ведет свою работу не в рамках ВАК, а по специальному поручению министерства.
— Как она называется? У нее есть какой-то статус?
— Группа по вопросам общественно-профессионального мониторинга качества работы экспертных советов ВАК.
- Подробнее о «Закрутим гайки — и пена уйдет»
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии