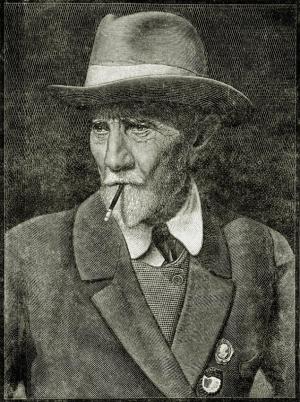Проект «Будущее углерода природных экосистем на вечной мерзлоте в Сибири: анализ процессов и уязвимости» под руководством немецкого исследователя Георга Гуггенбергера был поддержан мегагрантом Правительства РФ в 2013 году. Для реализации проекта в Институте леса КНЦ СО РАН была создана лаборатория экофизиологии биогеоценозов криолитозоны. Мы встретились с Георгом во время его очередного визита в Красноярск и поговорили о конкурентоспособности почвоведения как науки, судьбе углерода в Арктике и будущем лаборатории в Красноярске.
— Начнем с прошлого: как вообще завязалось ваше сотрудничество с Россией?
— Первый раз я был в России в 1995 году, участвовал в экспедиции Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера на Таймыр и Северную Землю. После этой поездки я влюбился в Россию. Огромное впечатление на меня произвели люди. Насколько я понимаю, у них тогда было мало денег, зарплата была не регулярной и не высокой, но отношения были фантастическими. Следующий проект начался в 1998 году, это были совместные исследования с якутским Институтом мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН. Мы работали в Геокриологической лаборатории в Игарке. Ходили в экспедиции по Енисею, посещали Красноярск, и здесь тоже завязались рабочие контакты. Мы знали друг друга по международным конференциям, позже провели конференцию по вечной мерзлоте в Красноярске. Через пару лет после первого конкурса мегагрантов, кстати во время новогодней вечеринки, за две недели до дедлайна мы подумали: а почему нет? Это была отличная командная работа, каждый знал, что он хочет написать. Нашу заявку поддержали.
— В чем была главная идея проекта?
— Понять, что происходит с почвенным органическим веществом в вечной мерзлоте. Вы видите, что сейчас на улице относительно тепло. В целом зимы в Красноярске в последние годы теплее, чем обычно. Температура растет по всему миру. Это приводит к таянию мерзлоты. Вечная мерзлота хранит органическое вещество точно так же, как мы храним продукты в морозильной камере. Как только морозильник сломался — еда пропадает, потому что микроорганизмы начинают активно разлагать органическое вещество. То же самое происходит или может произойти в тундре. Поэтому наша цель была, и она до сих пор до конца не достигнута, — определить, сколько углерода выделится в атмосферу в случае таяния мерзлоты. У нас есть определенные успехи, но мы еще не ответили на этот вопрос.
— Для кого-нибудь с улицы все звучит достаточно просто: вот есть почва, в ней находится углерод, стало теплее — весь углерод выделился в виде газов. Ну и в чем проблема?
— Для жителя Сибири глобальное потепление, действительно, не звучит как проблема. Вы скорее будете рады, если на улице станет теплее. Но мы должны думать шире. Я также работаю на юге России, в Алтайском крае и в Казахстане. Там последствия изменений уже заметны. Климат становится суше. Возникает угроза для урожайности в сельском хозяйстве.
По всей планете есть территории, которые пострадают от глобального потепления. Речь идет не только о температурах. Изменится регулярность выпадения осадков, повысится уровень воды в океане. В глобальном контексте последствия будут большими, глобальное потепление — это проблема для человека, не для природы.
— В чем проблема предсказать поведение вечной мерзлоты и судьбу углерода при росте температуры? Неужели почва — такая сложная система?
— Дело в том, что почва очень неоднородна. Нет никакой уверенности, что два образца почв из разных мест будут вести себя схожим образом. При одной и той же температуре разные почвы будут отличаться способностью удерживать углерод. Дело в том, что органическое вещество может связываться с минералами, и тогда оно намного стабильнее. Значит, меньше углекислого газа будет выделяться в атмосферу. По большому счету еще десять лет назад мы вообще не знали, каковы запасы углерода в почвах. Большое количество групп в России, Канаде, США, Швеции работает по этой тематике. Согласованная на сегодня оценка — это порядка 2600 гигатонн углерода во всех почвах, из которых примерно половина хранится в северной мерзлоте. Эти запасы втрое превышают количество углерода в атмосфере.
С темой мерзлоты и углерода можно рассчитывать на самый высокий уровень исследований и публикаций. Это очень горячая тема. Самая цитируемая публикация с моим участием была опубликована несколько лет назад в Nature. Как раз по теме, которую я только что упомянул: как почва хранит органическое вещество. В последние годы произошла смены парадигмы. Раньше была уверенность, что способность удерживать углерод связана с химической природой органического вещества (структурой). Мы показали, что в первую очередь важно качество почвы, есть ли в ней реактивные соединения минералов, таких как алюминий или железо, которые могут связывать (сорбировать) органический углерод. Чтобы исследовать химические процессы, которые протекают в почве, мы работаем на наноуровне. Когда мы говорим о почве, для объяснения протекающих в ней процессов требуется совместить разные масштабы — от наночастиц, которые являются центрами химических реакций, до ландшафта.
Статья Persistence of soil organic matter as an ecosystem property была опубликована в журнале Nature в 2011 году. На сегодня у нее больше 2000 цитирований
— Когда мы говорим о вечной мерзлоте, каков разброс в способности запасать углерод в зависимости от минерального состава?
— От 5 до 100 килограммов углерода на квадратный метр. Наши исследования, в том числе в рамках текущего проекта, показали, что, к счастью, способность мерзлоты удерживать органическое вещество достаточно высока. Это значит, что не так много углерода поступит в атмосферу по сравнению с представлениями об этом процессе еще пятилетней давности. Есть еще много тонкостей, связанных с физическим расположением слоев вечной мерзлоты, с потенциальными источниками углерода, углекислого газа или метана.
Минералы в почве, которые могут связывать углерод, — продукты выветривания материнских пород. Это помимо глинистых минералов, в частности, оксиды железа и алюминия. Их наличие связано с почвенными физико-химическими и биологическим процессами. Железо высвобождается, потом рекристаллизуется, и получаются химически активные соединения гидроксида железа. Физически это частицы с большой пористостью, а значит, огромной удельной площадью поверхности. По сути, речь идет о наноструктурированных материалах, аналогичных тем, что получают химики в лаборатории. В Ганновере мы сотрудничаем с химиками, которые помогают нам определить такие соединения. Они производят их в лаборатории, а природа делает их сама в почве. Это наночастицы размером 1-5 нанометров.
Моя грубая оценка — около 20% углерода в случае таяния мерзлоты выделится в атмосферу. Это очень, очень много. Современная концентрация углерода в атмосфере — 400 ppm (примерно 0,04%). Если добавить упомянутые выбросы в случае таяния мерзлоты, то концентрация достигнет уровня 480 ppm. Важно учесть, что процесс таяния может занять до 50 лет. И мы не знаем, как будет вести себя почва дальше. Мерзлота тает относительно быстро, это вопрос десятилетий. Почва эволюционирует медленно. Как поведут себя реактивные минеральные элементы? С ростом температуры они могут сорбировать какое-то дополнительное количество органического вещества. Если на новой территории начнет расти лес, он будет изменять состав почвы. Все это делает судьбу углерода мало предсказуемой. Сначала точно будут наблюдаться потери углерода, но, вполне возможно, через несколько сотен лет немерзлотные почвы, сформировавшиеся из мерзлотных, будут способны вновь аккумулировать органику.
— Вот вы исследуете реакции экосистем на изменение климата. Это горячая тема, политическая. Но при этом потребуется, допустим, 200 лет для того, чтобы система перешла в новое равновесное состояние, сначала выделив, а позже поглотив углерод. Однако лица, принимающие решения, мыслят более короткими сроками. Как соединить кратковременный горизонт принятия политических решений и долговременный научный подход к исследованию экосистем?
— Думаю, что в конечном итоге нас будет учить природа. Действительно, я довольно много общаюсь с политиками и чаще всего слышу, что нам нужно решение в течение ближайших, допустим, 10 лет. На самом деле первое решение очень простое: нужно сократить выбросы парниковых газов. Время для того, чтобы это понять, давно прошло. Я думаю, сегодня многие политики это хорошо понимают. Например, даже в Китае наблюдаются большие сдвиги. Сегодня Китай — крупнейший производитель ветровой и солнечной энергии. Во многих странах наблюдаются подобные тенденции. Можно сказать, что временный откат произошел в США (но я твердо уверен, что текущая политика не продлится дольше одного президентского срока, в Штатах слишком многие хорошо понимают важность проблемы).
— Кстати, в России ведь тоже неоднозначная позиция по поводу глобального потепления. Можно сказать, что даже в российском научном сообществе много скептиков по поводу возможного влияния деятельности человека на климат.
— Думаю, вы правы. Многие коллеги здесь в России с подозрением относятся к идее изменения климата. Мне, конечно, трудно говорить за всех, тем более за политиков, но нужно понимать, что экономика России сильно зависит от добычи и продажи углеводородов.
Сложно призывать ограничивать использование этих видов топлива, когда от них зависит экономика. Впрочем, такие ученые встречаются и в других странах. Но в целом научное сообщество сегодня выработало своеобразный консенсус, в рамках которого глобальное изменение климата и вклад человека в этот процесс считаются признанными.
— Цель мегагранта — создание новой лаборатории. Как вы оцениваете успех в этой области? Вам удалось создать работающее подразделение? С нуля или усилили уже существовавшее?
— Это полностью новая группа. Большую часть денег мы потратили на закупку оборудования и на экспедиции. Основной состав новой группы — шестеро исследователей. В первые два года нас было больше. Если считать со студентами, то в проекте принимало участие 23 человека. По меркам Германии, для одной тематики — это большой коллектив. Сейчас основной вопрос, как группа будет работать дальше. Думаю, что она будет всегда зависеть от наличия грантовых денег (soft money). Мне кажется, это тот путь, по которому скоро будет устроена вся наука в России. В Германии у меня в институте есть базовое финансирование, на которое, на самом деле, я не могу реализовывать крупные проекты и в целом содержать лабораторию. Для полноценной работы нужны гранты. Здесь — похожая ситуация. В целом возможности для получения грантов в России растут. Мы планируем подготовить заявку на совместный конкурс между РФФИ и DFG, подготовили несколько заявок для привлечения молодых ученых на стажировки по программам РФФИ, хотим задействовать возможности DAAD. Сам же мегагрант, по сути, длился пять лет, первые три шло основное финансирование, потом было продление на один год, и последний, пятый, год нас финансировал институт.
Вообще, если оценивать программу мегагрантов, то у нее есть несколько недостатков. Первое: программа написана под университеты. В академическом институте ее реализовать сложно из-за высоких требований по софинансированию. Причем софинансирование должно формироваться исключительно из внебюджетных источников. Не многие академические институты способны на такое. Второе: если мы говорим про иностранного ученого, то руководителем гранта, по сути, может быть только пенсионер. Требования по пребыванию в России практически невыполнимы для действующего профессора западного университета. Наш проект подразумевал большое количество экспедиций — в этом случае провести необходимое время в стране оказалось проще. Также министерство требует, чтобы руководитель мегагранта читал здесь лекции, опять же это университетский формат работы. В академическом институте он может проводить дни, общаясь с молодыми учеными, но формально это не является преподаванием.
— В течение этих пяти лет в России происходили разные события в области научной политики — реформа академии наук, развитие университетов. Вы как-то можете оценивать эти изменения? Российская наука стала более конкурентоспособной?
— Безусловно, наука стала более активной. Я участвовал во встрече с президентом Российского научного фонда Александром Хлуновым в Санкт-Петербурге, мне понравилось, что система становится открытой. Заявки нужно подавать на английском языке, экспертиза становится международной — это усиливает конкурентоспособность. В целом есть ощущение, что денег, за которые можно конкурировать, становится больше. А это стимулирует ученых и двигает науку вперед.
Я не могу говорить за все области науки. В сферах, где Россия была всегда сильна, таких как физика, математика, микробиология, химия, наука до сих пор на лидирующих позициях. Если мы говорим про экологию, она немного отстает. Но я вижу прогресс.
Нужно отметить интересный момент. Например, я всегда говорю своим студентам, что почвоведение — это русская наука, ведь одним из ее основателей был русский ученый Василий Докучаев. По сути, он первый начал изучать почву с научной точки зрения, придумал систему классификации, исследовал влияние внешних условий на ее функционирование. Можно сказать, что мы до сих пор развиваем идеи Докучаева.
— Но традиционное почвоведение всегда завязано на классификацию, верно? Такие описательные исследования разве все еще актуальны?
— Когда я был студентом, в качестве основных задач стояли характеристика почвы, описание условий, в которых они сформировались. Сегодня на такие работы финансирование не получить. Это не рассматривается как современная наука. Но! Классификация почв — важная задача. Я учу своих студентов международной системе классификации почв FAO (Food and Agricultural Organization). Почвоведы часто сотрудничают с сельским хозяйством, а там такие классификации активно применяются. Классификация почв — это основа, которая нужна и для оптимизации землепользования, и для любого исследования. Как только вы точно классифицировали почву, вы знаете ее свойства. Зная свойства, вы можете оценить, как можно использовать почву, оценить урожайность. С этой точки зрения классификация почв — до сих пор важная задача, этому нужно учить студентов, но сегодня это уже прикладная область сельского хозяйства, а не передовая наука.
 — Получается, кроме политических приложений в вашей работе много практики?
— Получается, кроме политических приложений в вашей работе много практики?
— В этом году я получил престижную европейскую премию Culture Award. Недавно мы общались с сельхозпроизводителями в Казахстане, и на мое предложение отметить премию по культуре, один из них сказал: «Я не знал, что ты еще и поёшь». На самом деле премия не имеет отношения к культуре. Это награда для ученых, которые занимаются не только фундаментальными, но и прикладными исследованиями, влияют на политические решения. Мне вручили ее за обоснование устойчивого землепользования для разных типов почвы. В течение многих лет мы работали в тропических странах. Проект был связан с обучением людей экологическим навыкам при работе на земле. Мы общались с разными целевыми группами, с лицами, принимающими решения, и пытались их убедить использовать научно обоснованные практики землепользования. Круг контактов, например, в Бразилии — от фермеров до министра окружающей среды.
Сейчас мы вовлечены в проект по управлению земельными ресурсами в степных регионах Алтайского края и Северного Казахстана. Там мы тоже работаем с фермерами, вместе с ними планируем и проводим эксперименты. Мы предлагаем им альтернативные стратегии по использованию доступных ресурсов. В этих регионах, чтобы сохранить плодородный слой, мы советуем не возделывать землю. У такого способа есть много преимуществ — практически нет эрозии, сохраняется влага. Недостаток метода — раз нет вспашки, то не повреждаются сорняки, то есть нужно использовать большое количество гербицидов. Если мы предложим способ сократить количество гербицидов, то фермерам это понравится. С точки зрения фермера, он не обязан в первую очередь заботиться об окружающей среде — у него экономические соображения на первом месте. Поэтому мы сотрудничаем и с экономистами, потому что в конечном итоге устойчивое землепользования должно быть устойчивым и экономически.
Фермеры, с которыми мы сотрудничаем, дают самые высокие урожаи. Они перешли на прямой (беспашенный) посев. И в Кулундинской степи на Алтае, и в Казахстане очень большая ветровая эрозия. В случае пахоты весь плодородный слой быстро сносит. А если сеять без пахоты, то этой проблемы нет. Для такого посева нужна специальная сеялка, но умельцы делают их и сами. Один фермер в Казахстане сделал такую сеялку из старых тракторов и доступных материалов и теперь успешно использует ее. В этом смысле мы многое узнаем от людей на местах: не только мы советуем им новые подходы, но и сами получаем новую информацию. Например, такая простая мера, как использование водозадерживающих лесополос, — мы увидели, что где-то их используют, а где-то нет. Позже поняли, что полезность такой полосы зависит от силы ветра и уровня влажности: там, где ветра слишком большие, а снега мало, полосы не имеют смысла.
Мы стараемся связать фундаментальные и прикладные исследования. В следующем году планируем использовать стабильные изотопы азота, чтобы понять, насколько эффективно используются те азотные удобрения, которые размещаются на полях. Также мы будем использовать изотоп кислорода 18О, чтобы разобраться, сколько воды из почвы в конечном итоге испаряется, а какая часть поступает в растения. Нужно сравнить разные варианты обработки почвы с точки зрения распределения влаги. Как ни странно, это до сих пор не известно.
— Назовите пять самых главных задач для современной науки о почвах.
— Связь между почвой и климатом. Мы уже говорили о том, что углерод, который хранится в почвах, может быть важным источником парниковых газов. Сегодня это тема номер один.
Эрозия почвы. Если мы теряем почву, мы теряем основу для земледелия. Несмотря на все успехи в гидропонике или других методах, чтобы прокормить восемь миллиардов человек на планете, человечеству нужна почва, по крайней мере, в перспективе ближайших ста лет. Я с удовольствием приезжаю летом в Красноярск, чтобы попробовать домашние помидоры или огурцы, выращенные в натуральном грунте. В супермаркете таких не купишь. У почвы много секретов, которые мы еще не раскрыли. В первую очередь речь идет о биохимии. Растению нужны не только основные питательные вещества — углерод, азот, фосфор. В почве содержатся самые разные биологически активные вещества, которые могут влиять на рост. Тонкости всех процессов в этой сложной системе мы еще не изучили.
Функция почвы по очистке воды. Почвы предотвращают загрязнение грунтовых вод. Это очень важная тема для многих промышленных регионов. Мы должны понимать, как происходит очистка, и, возможно, научиться управлять этим процессом. Очевидная проблема связана с тем, что если почва очищает воду, то она накапливает загрязняющие вещества. Если их слишком много, почва непригодна для других использований.
Я бы посоветовал многим посмотреть на Китай. Они очень прагматичны. Уровень загрязнения окружающей среды за последние несколько десятков лет был очень большой, но они полностью изменились в последние годы. Города становятся чище, закрываются грязные производства, идет движение в сторону высоких технологий. При этом почва в Китае считается важным стратегическим ресурсом. В Китае находятся крупнейшие центры по исследованию почвы, оборудованные лучше, чем многие институты в Германии.
Технологические применения. Многие соединения в почве имеют способность связывать и хранить вещества. Например, здесь, в Красноярске, в Институте химии и химической технологии СО РАН, ученые специально получают наночастицы для того, чтобы нейтрализовать загрязняющие вещества. Синтезированная в лаборатории частица в каком-то смысле идеальна. В почве же многие соединения имеют более высокую реакционную способность, потому что в них есть разные примеси. Так что нам нужно учиться у природы.
Лекарственные препараты и биологически активные соединения. Как и в случае наночастиц, природа может научить нас многому. С недавних пор перевозка образцов почвы очень жестко регламентируется, в первую очередь из-за ее биологических свойств. С одной стороны, из любой почвы можно извлечь и вырастить очень токсичные виды бактерий. Нужно только уметь их культивировать. С другой — крупные компании используют образцы почвы для выделения биологически активных соединений. Это предмет для патентования и последующих доходов.
Астробиология. Еще одно интересное направление, пусть актуальных тем будет шесть, а не пять. Рано или поздно перед человеком встанет задача колонизации Марса или Луны. Я участвую в проекте, который реализуется в пустыне Атакама, самом сухом месте на планете. Считается, что Атакама в чем-то является аналогом Марса. Вспомните художественный фильм, где астронавт выращивал картофель на Марсе. Это не фантастика. В Атакаме мы исследуем состав почвы, скорость выветривания, закономерности миграции питательных элементов. 20—30 лет назад люди думали, что это мертвое место. Но там есть жизнь, в почве протекают биогеохимические процессы. Рано или поздно на Марсе будет сельское хозяйство с использованием марсианской почвы.
— Нарисованная вами картина современного почвоведения несколько отличается от часто встречающегося мнения, что это если и не наука вчерашнего дня, то что-то далекое от мейнстрима.
— Исследования почвы — актуальная как никогда сфера деятельности. Выпускники нашего факультета всегда находят работу. Ситуация изменилась за последние годы. 20 лет назад все думали, что все известно, почвоведение мертво. Но это не так. Да и границы дисциплин сейчас стираются. Я уже упоминал, что, работая с почвой, мы выходим в сферу нанотехнологий.
Если говорить про публикации, то почвоведы очень успешны в конкуренции с другими науками. В нашем университете всего лишь один высокоцитируемый ученый, и он не физик или химик, а почвовед — это я. Во многом благодаря тому, что мои исследования связаны с темой изменения климата. Но надо отметить, что работы по судьбе органического вещества в почвах я начал еще в своей диссертации, когда многие продолжали старомодные эксперименты по обогащению почвы питательными веществами.
На самом деле в России еще в 60-е годы прошлого века занимались близкой тематикой. Тогда Россия все еще лидировала в этой области исследований. Сегодня, к сожалению, нет. Даже почвоведение стало дорогой наукой. Для работы на передовом крае нужны дорогие приборы, работа со стабильными изотопами. Не многие лаборатории экологической тематики могут себе такое позволить. Но здесь, в Красноярске, сейчас отличное оборудование.
— То есть вам удалось создать в Красноярске центр по исследованию почвы. Получается, сюда нужно привозить лучших ученых со всей страны?
— Не уверен насчет России, но всю Сибирь — точно. Сейчас мы ищем возможности для интеграционных проектов. Подобные проекты могут существовать только за счет привлеченных средств. Ведь, даже если ученый приедет в Красноярск, для измерения на приборе нужны деньги — цена одного анализа в зависимости от цели исследования может достигать семи евро.
По правилам мегагранта мы будем еще три года подавать отчеты, демонстрируя, что лаборатория устойчиво существует. Сейчас основной источник финансирования — хоздоговоры и гранты. Но в будущее мы смотрим с оптимизмом. Дело в том, что у нас есть не только приборы, которые сами результат не получат и статью не напишут. Главное — у нас есть идеи, что мы будем делать!
Егор Задереев