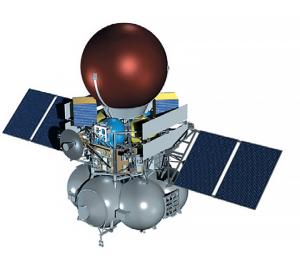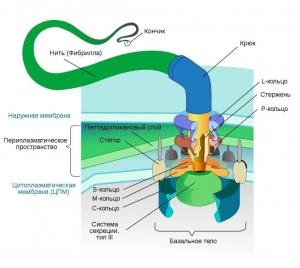Неподъемный рост
Российская экономика во втором квартале 2019-го выросла на 0,8 процента к прошлому году. В первом квартале рост был еще меньше — 0,5 процента. Правительственные чиновники — и после первого квартала, и после второго — пытаются убедить, что вот в следующем квартале экономика, наконец, совершит давно обещанный рывок.
Правда, никто не объясняет, почему это произойдет и что для этого было сделано. Тревожным фоном стали прогнозы Института экономики роста им. Столыпина — там рецессию обещают уже в этом году (в отличие от министра экономики, который отодвинул ее на 21-й год). Уточним: рецессия — это небольшое падение после подъема. И где же подъем?.. Некоторые специалисты, правда, ведут разговор не о рецессии, а затяжной стагнации, в которой увязла страна. Так с чем же мы все-таки имеем дело?
Оптимисты (наша экономическая и финансовая система выстояла под натиском санкций) и пессимисты (страна в экономическом кризисе, народ беднеет) при всей разнице посылов и промежуточных выводов говорят, похоже, об одном и том же: экономика не растет, а перспективы ее непонятны. О видах на будущее «Огонек» решил расспросить академика РАН Абела Аганбегяна, у которого свой взгляд на перспективу: он полагает, что нас ожидают еще три года экономической стагнации.
— Абел Гезевич, почему наша экономика, вопреки поставленной задаче — добиться темпов роста выше мировых, вдруг остановилась?
— Она остановилась действительно неожиданно, перейдя к стагнации с 2013 года после 3-летнего восстановительного подъема, когда были превзойдены докризисные показатели. Это было за 1,5 года до присоединения Крыма, введения санкций, снижения цен на нефть, девальвации рубля. Понятно, что в экономике не бывает все ровно, одни показатели растут, другие уходят в минус. За 6 лет стагнации ВВП в среднем в год увеличивался на 0,4 процента, промышленность — на 0,6 процента, увеличился транспорт, сельское хозяйство, платные услуги. Одновременно заметно сократились инвестиции, строительство, розничный товарооборот. Шестой год снижаются реальные доходы населения, третий год идет падение ввода жилья. На 20–25 процентов снизился экспорт и импорт.
— Кажется, в 2015 году был самый низкий показатель экономического роста, но все равно он был в плюсе, около 1 процента?
— Вы ошибаетесь. В 2015 году стагнация в результате введения санкций и катастрофического снижения цен на нефть сменилась рецессией, то есть падением социально-экономических показателей. ВВП снизился на 3 процента, промышленность — на 3,4 процента, инвестиции — на 8,1 процента, реальная зарплата — на 9,5 процента. Наблюдалась рекордно высокая инфляция — 15,5 процента. Валютный курс рубля по отношению к доллару и евро снизился в 2 раза.
— Вернемся к 2013 году. Почему тогда все остановилось?
— Это ключевой вопрос. Основной источник экономического роста в любой индустриальной стране (а мы такой и являемся) — это инвестиции в основные фонды — в машины, станки, оборудование, на которых работают люди и выпускают продукцию. Эти фонды требуют постоянного обновления, то есть инвестиций. Инвестиции дважды влияют на рост экономики. Первый раз — в момент вложений. Например, начинается большая стройка, приезжают инженеры, рабочие, там живут, туда везут материалы, все это работает на рост ВВП. Второй раз (и более существенно) — в среднем через четыре года, когда основные фонды начинают выдавать продукцию. Отсчитайте 4 года от 2013-го назад — это был кризисный 2009 год. Тогда инвестиции в основные фонды упали на 15 процентов. Поэтому в 2013 году ввод основных фондов практически не вырос, а в 2014 году даже снизился, и на их основе было меньше произведено продукции и услуг. Прирост ВВП сократился, но небольшой рост экономики, скажем, 2,5–3 процента, мог сохраниться, если бы инвестиции продолжали рост на 8–10 процентов, как в прошлые годы. Но они показали нулевой рост, и в этом основная причина перехода к стагнации.
— Почему в 2013 году инвестиции были на нуле?
— Надо разбираться, кто сократил инвестиции. С 2013 по 2015 год инвестиции частного бизнеса, например, увеличились на 10 процентов. А вот государственные инвестиции сократились.
Бюджеты всех уровней — федеральный, региональные и муниципальные — за эти 3 года снизили инвестиции на 23 процента. Причем дружно, как по команде. Далее, госкорпорации — «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Ростехнологии» и «Росатом» — вместе уменьшили инвестиции на 30 процентов. Наибольшее сокращение произошло в «Газпроме», который после строительства «Северного потока – 1» уменьшил инвестиции с 1,5 трлн до 700 млрд рублей в год. Затем — банки с государственным участием (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк. Внешэкономбанк и т.д. — всего государству принадлежат около 60 процентов банковских активов) сократили объем инвестиционных кредитов на 25 процентов. Вот и получилось: хоть частный бизнес и вложился, общее падение составило 11 процентов.
— Получается, именно в этом главный тормоз?
— Экономика — сложное явление, и есть много других факторов, которые могут ее тормозить. Во-первых, с 2008 года — 11-й год — идет постоянный отток капиталов из страны (он составил около 750 млрд долларов). Другой фактор — основные фонды не обновляются, они прогрессивно стареют, 23 процента всех машин и оборудования работают свыше сроков амортизации, их давно надо бы сдать в металлолом. Но как-то ремонтируют, поддерживают — новых-то нет. Тянет экономику вниз и сокращающийся бюджет государства, если его считать не в номинальных рублях, а в постоянных ценах, то есть за вычетом инфляции. Следующий фактор — это снижение доходов населения. Можно считать, оно продолжается 6-й год, за исключением 2018-го, когда наша умелая статистика показала рост на 0,1 процента. Но фактически потребительский спрос падает постоянно, и это тоже тормозит экономику. И, наконец, еще один существенный фактор — резкое ухудшение демографической ситуации. В годы стагнации число трудоспособного населения сократилось почти на 5 млн человек. Снизилось число женщин фертильного возраста, в прошлом году родилось на 300 тысяч детей меньше, чем в 2016-м. Смертность у нас снова стала превышать рождаемость. Это называется депопуляцией. Раньше она перекрывалась положительным сальдо трудовой миграции. Но в 2018 году она резко снизилась из-за девальвации рубля в 2 раза по отношению к доллару — мигрантам стало невыгодно у нас работать. Поэтому численность населения страны стала сокращаться.
— И как долго эта стагнация будет продолжаться?
— Я думаю, что еще минимум 3 года. В прошедшие месяцы этого года инвестиции в основной капитал выросли на 0,5 процента, этого совершенно недостаточно, и это, естественно, снизит прирост ВВП в 2021–2022 годах. К тому же не удастся в короткий срок преодолеть негативные тренды, о которых речь была выше.
— И как же выскочить из этой стагнационной спирали? Быть может, цифровизация экономики, о которой теперь так много говорят, поможет?
— Цифровизация необходима, но она не главный источник роста. Такими источниками являются рост инвестиций в основной капитал и в человеческий капитал. Человек с его знаниями и умением — главная производительная сила, поэтому сфера «экономики знаний» (НИОКР, образование, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии и здравоохранение) является основной составной частью человеческого капитала.
В России доля «экономики знаний» в ВВП — 14 процентов. Доля «экономики знаний» в валовом продукте Европы — 30 процентов, доля промышленности — 25 процентов. В США — 40 и 20 процентов.
В индустриальных странах главный источник — инвестиции в основной капитал, а вложения в человеческий капитал — дополнительный источник. В постиндустриальных развитых странах на первом месте здесь вложения в человеческий капитал. Так что социально-экономический рост в наибольшей мере зависит от доли инвестиций в основной капитал и от доли вложения в человеческий капитал (в «экономику знаний») в ВВП. Если доля инвестиций 20 процентов, как в развитых странах, экономика растет по 1,5–2 процента в год. Доля инвестиций в 25 процентов дает 3 процента. В развивающихся странах эта доля — 30–35 процентов, и поэтому в среднем мы у них наблюдаем 4–5 процента роста в год. Больше 40 процентов, как в Китае, обеспечивают рост в 6,5–7 процентов. В России доля инвестиций в основной капитал в районе 20 процентов, но крайне низка доля вложений в «экономику знаний» — 14 процентов. Поэтому у нас стагнация. А наша беда еще и в том, что даже низкие инвестиции в человеческий капитал сокращаются: доля образования в ВВП с 2008 года снизилась в стране на 10 процентов.
— Есть ли опыт преодоления стагнации, которым мы могли бы воспользоваться?
— Есть, например у США. Там стагнация продолжалась с начала 1970-х годов до 1982-го. Пытались бороться со стагнацией два американских президента, Форд и Картер. У каждого была программа выхода из стагнации, но не получалось. Потому что оба боролись с кризисом, не понимая, что стагнация — совсем другое дело. Ни Форда, ни Картера не переизбрали на второй срок — редкий случай в США. Лишь когда пришел Рейган, дело сдвинулось.
— Благодаря «рейганомике»?
— Да. Это была в принципе новая экономическая политика. Поначалу казалось, что она противоречит здравому смыслу. Он снизил налоги, и не только с бедных, но и со среднего класса, и даже с богатых. Высвободились большие деньги, сотни миллиардов долларов. И они не ушли в потребительскую «топку» — Рейган сделал так, что средства, вложенные в производство, от налогов освобождались, люди оказались вовлечены в инвестиционный процесс. При этом срок амортизации машин и оборудования был сокращен в два раза. Это двинуло вперед самые современные по тем временам отрасли. Америка тогда очень сильно отстала от Японии по технологиям, но смогла вырваться вперед, выросли доходы граждан, резко снизилась безработица. В итоге 25 лет небывалого роста — практически до 2007 года.
— Этот опыт, надо полагать, активно изучается у нас?
— Увы. Ни на одном заседании Экономического совета при президенте, ни на одном заседании правительства, ни на одной конференции, ни на Петербургском, Сочинском, Гайдаровском форумах ни разу не обсуждалась тема «Как мы оказались в стагнации». Нет ответа. Я говорю об этом, потому что меня это очень волнует.
— Но ведь правительство принимает какие-то меры для оздоровления экономики...
— Вместо оздоровления все выходит наоборот! Трудно придумать что-то хуже, чем повысить НДС именно сейчас. Если, конечно, нет задачи продлить стагнацию еще на пару лет. Добавьте рост тарифов ЖКХ, налога на недвижимость, неналоговых платежей и так далее — это все люди на себе чувствуют. Увеличение срока выхода на пенсию — из той же серии.
Казалось бы, ну подождите 3 года, когда экономика начнет расти. Нет, продавили, хотя 75 процентов населения против. И это, с моей точки зрения, еще больше тормозит экономику. В 2019 году доходы населения уже упали на 2,3 процента, а значит, и платежеспособный спрос падает.
— Национальные проекты помогут выйти из стагнации?
— Национальные проекты очень важны. Хороший проект по транспорту, по строительству автомобильных дорог, демографический проект, материнский капитал и пособия на детей — все это важно. Но у нас ключевая проблема сегодня все же не с инфраструктурой и не с рождаемостью, а с бедностью. Ведь цель нацпроектов — рост благосостояния. В период стагнации численность бедных увеличилась на 5 млн человек — до 20 млн. В указе президента РФ В.В. Путина поставлена задача вдвое ее сократить — до 10 млн человек к 2024 году. Но такой программы сокращения бедности, увы, нет.
И, самое главное, в нацпроектах нет ни слова о том, что экономический рост нужно организовать на базе технологического перевооружения промышленности. Поэтому если влияние нацпроектов и будет, то очень небольшое.
Сошлюсь на расчеты других экспертов. В Альфа-банке считают, что нацпроекты дадут прирост ВВП в 0,1–0,2 процента в год. В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН — 0,6 процента. Словом, это все хорошо, но это не прорыв.
— И как же выходить из стагнации?
— Надо изменить экономическую политику — перейти к форсированному росту инвестиций в основной капитал и вложений в «экономику знаний». Для России сейчас надо ежегодно увеличивать на 10 процентов инвестиции в основной капитал и 10 процентов, а может, и больше, в человеческий капитал. Тогда при благоприятных условиях в 2022 году получим рост в 3 процента, а в 2024–2025 годах — 4–5 процентов.
— И где взять на все это деньги?
— Надеяться, что деньги найдутся у государства, наивно. У нас весь федеральный бюджет — около 20 трлн рублей, и для правительства дополнительно найти полтриллиона — проблема. Но есть активы банков, в прошлом году они составляли 92,5 трлн рублей. В одном Сбербанке — больше 30 трлн. Наши банки сейчас дают инвестиционные кредиты, но по минимуму — всего лишь 8 процентов от общего объема инвестиций в основные фонды. В развитых странах картина иная: там банки вкладывают от 30 до 50 процентов, а в развивающихся странах — 20–25 процентов. Мы могли бы увеличить инвестиционные кредиты госбанков в 3–5 раз. Это, на мой взгляд, главный источник дополнительных средств. Хотя есть и другие. Например, золотовалютные резервы у нас 500 млрд долларов, из них 200 млрд можно пустить на инвестиции, заимствуя на возвратных условиях с окупаемостью 5–10 лет по 20–30 млрд долларов ежегодно. А остальные 300 млрд держать «на черный день». Есть еще много других источников «длинных денег» — страховые, пенсионные и другие фонды. У населения 40 трлн рублей: 30 трлн на счетах, 10 трлн в «кубышках» (и еще 1 трлн долларов в зарубежных банках). Ключевая проблема в том, чтобы создать условия для выгодных вложений всех этих средств в экономику. Увы, серьезных предложений и идей здесь мы не видим.
— А какие могут быть идеи при нынешней ставке по кредитам…
— Вы правы, это важнейшая проблема. Сегодня средняя ставка кредитования инвестиций — около 10 процентов. Многие под такой процент кредит не возьмут, потому что средняя прибыль по промышленности меньше ставки, предприятие просто разорится. Окупаемость технологического перевооружения действующих производств 5–7 лет, и здесь приемлемая ставка может быть 5 процентов годовых. Для создания новых мощностей в машиностроении, химии, высокотехнологичных отраслях требуется 10–12 лет, и кредит должен быть еще ниже — под 4 процента годовых. А окупаемость инфраструктурных проектов — 20–25 лет, для этого нужен кредит и вовсе под 3 процента. Один ЦБ проблему решить не может, никакой «дорожной карты» пока нет. Необходима президентская программа, чтобы за 3–4 года снизить ключевую ставку ЦБ хотя бы до 4 процентов и, соответственно, вдвое — ставки инвестиционного кредитования. До этого времени, на наш взгляд, целесообразно по линии бюджета доплачивать банкам 5 процентов от суммы кредита, чтобы выдавать кредиты хотя бы под 5 процентов годовых.
— А какие еще резервы тут могут помочь?
— Надо сократить сроки амортизации, пусть не в два раза, как было в «рейганомике», но хотя бы в полтора раза. Это даст дополнительные стимулы производству машин и оборудования, а также позволит увеличить амортизационный фонд и инвестиции из него на 1 трлн рублей. Нужно снизить долю государства в экономике (она сейчас достигла 71 процента). У государства должно остаться в собственности то, что служит выполнению его функций и целям безопасности страны. Думаю, 45 процентов было бы достаточно. Массовая приватизация может принести дополнительный доход государству до 1 трлн рублей в год.
Если указанных дополнительных средств на инвестиции не хватит, то можно за счет дополнительных займов привлечь дополнительные средства. Это можно сделать, так как наше государство имеет минимальные внешние и внутренние долги — не 100–200–300 процентов к ВВП, как у Западной Европы, США, Японии и Китая, а в 10 раз меньше. А вообще, заново изобретать ничего не нужно, все давно известно.
Надо просто понимать, что времени на раздумья больше нет — надо действовать. Иначе мы никогда не войдем в пятерку лучших, и уже в ближайшее время нас обгонит… Индонезия. Не удивляйтесь: она уже дышит нам в затылок. Крайне важно еще создать условия для эффективного использования инвестиций и ввести стимулы для экономического роста, снимая препятствия с его пути. Для мобилизации инвестиционного кредита, например, крайне важно массово перейти на кредитование по принципу проектного финансирования. Нужно ввести стимулы для технологического перевооружения предприятий и ввода новых мощностей, дав налоговую паузу для производств, которые его осуществляют. Нужны и серьезные институциональные преобразования, и структурные реформы. А дополнительные финансовые ресурсы от возобновления экономического роста в подавляющей части должны направляться на повышение уровня жизни. Ибо без растущего платежеспособного роста не может быть устойчивого социально-экономического развития.
Беседовал Александр Трушин
- Подробнее о Неподъемный рост
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии