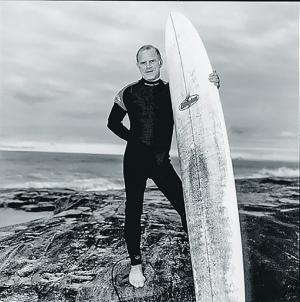Высокие технологии в Сибири
В трех институтах новосибирского Академгородка рассказали об исследованиях, которые будут развиваться в Междисциплинарном исследовательском комплексе аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики и Центре нанотехнологий. Разработки в области механики, аэродинамики, химической физики, новых материалов должны обеспечить российской промышленности технологический прорыв.
В создании Междисциплинарного исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики участвуют Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН и Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН.
«Этот комплекс является достаточно масштабным проектом, предполагает создание целого ряда уникальных экспериментальных установок для изучения процессов в космическом пространстве, в энергетической сфере, в Мировом океане. Главная цель создания центра — формирование следующего этапа научно-технического задела, который был бы полезен реальному сектору экономики. Это транспортные системы, энергетическое машиностроение, судостроение, охрана окружающей среды и исследование космоса», — сказал директор ИТ СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Маркович Маркович.
В лаборатории интенсификации процессов теплообмена ИТ СО РАН ученые исследуют процессы, проходящие в пленках, каплях и ручейковых течениях, в том числе в условиях микрогравитации. «Одна из главных целей нашей лаборатории — провести комплекс исследований для охлаждения электронного, микроэлектронного и другого высоконапряженного по тепловым потокам оборудования, в том числе электроники для космоса. Основная проблема сегодня заключается в том, что тепловые потоки в электронном оборудовании достигают очень высоких величин, сравнимых с тепловыми потоками на Солнце, — до одного киловатта на сантиметр квадратный и даже больше. Всего несколько лабораторий в мире работают на таком уровне, что могут отводить это тепло, в том числе и мы. Другой важный вопрос, который необходимо решить, — проблема контактной линии. При взаимодействии жидкости, твердого тела и газообразной фазы есть область, занимающая всего несколько микрон, где интенсивность испарения и теплообмена аномально высокая. В нашей лаборатории мы смогли без участия иностранных партнеров обеспечить измерение толщ слоев до ста нанометров и менее», — отметил и. о. заведующего лабораторией экспериментальной аэрогазодинамики ИТ СО РАН кандидат физико-математических наук Иван Николаевич Кавун. Для этих целей сотрудники лаборатории создали стенд, который позволяет контролировать все условия внутри вакуумной камеры — давление, температуру и другие параметры. Ближайшая цель — научиться исследовать наиболее тонкие пленки толщиной порядка 10 нанометров.
Ученые ИТ СО РАН разрабатывают также системы охлаждения в микроканалах — предполагается, что они будут использоваться в процессорах, которые появятся на рынке уже в следующее десятилетие, изучают распространение капиллярных волн, что может применяться в нефтедобыче и очищении на заводах по производству бензина. Кроме того, здесь работают над управлением параметров поверхностей с микро- и нанопокрытиями . Такие поверхности не стойкие, меняют свои свойства с течением времени. Разработки сотрудников ИТ СО РАН помогут в несколько раз интенсифицировать теплообмен. В сочетании с технологией микроканалов это позволит создать максимально интенсивную технику для энергетики, транспорта и космоса.
Дмитрий Маркович подчеркнул, что концепция комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики не является неизменной, а модифицируется со временем. За последний год в эту концепцию добавилась новая уникальная установка — башня сбрасывания, которая поможет в земных условиях проводить эксперименты в невесомости. Башня сбрасывания представляет собой здание высотой около 200 метров. Внутри него расположен металлический цилиндр, из которого откачан газ. Любое тело, попавшее в этот цилиндр, под действием гравитации будет пребывать в условиях невесомости. Внутри капсулы, которая движется по цилиндру, расположено экспериментальное оборудование.
Сейчас ИТ СО РАН проводит подобные исследования в параболических полетах на самолете Европейского космического агентства в аэропорту Бордо Мериньяк во Франции. Но такие полеты очень дорогие, в них вынуждены участвовать люди, к тому же осуществлять их получается всего несколько раз в год. Создание башни сбрасывания поможет ликвидировать эти недостатки. Состояние невесомости в ней будет длиться всего 9 секунд (тогда как в параболическом полете — 22), но этого времени вполне достаточно для исследований. На сегодняшний день башня сбрасывания есть в Европейском космическом агентстве в Бремене (Германии), в России они либо низкие, либо принадлежат закрытым предприятиям.
В ИТПМ СО РАН также рассказали о разработках для междисциплинарного комплекса и продемонстрировали аэродинамическую трубу Т-313 и гиперзвуковую аэродинамическую трубу Т-326.
«Современные вызовы в аэродинамике заключаются в трех основных направлениях. Прежде всего, это снижение шума, выбросов в атмосферу, повышение топливной эффективности летательных аппаратов, а также — полет со сверхзвуковыми скоростями. Сейчас он осуществляется только в рамках военных программ. Стоит задача в ближайшие годы сделать сверхзвуковой пассажирский самолет — это будет что-то типа бизнес-джета на 10—15 человек. Если всё пойдет хорошо, то такие полеты начнутся в течение ближайших 10 лет. Другой большой вызов — это гиперзвуковые скорости, которые необходимы для создания воздушно-космических самолетов, полетов с глобальной дальностью»,— рассказал заместитель директора по научной работе кандидат физико-математических наук Андрей Анатольевич Сидоренко.
 Для Междисциплинарного исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики ученые ИТПМ СО РАН спроектировали три большие установки. Это климатическая аэродинамическая труба для изучения проблем обледенения и в целом климатических проблем как в авиационной технике, так и в транспортном машиностроении, импульсная труба на высокие числа Маха, чтобы можно было испытывать крупногабаритные макеты изделий. Третья установка —плазменный стенд, на котором будут исследовать проблемы теплообмена невозвращаемых аппаратов или аппаратов, совершающих длительные полеты в атмосфере с большими скоростями. «Вторые две трубы являются развитием уже отработанных у нас технологий. Это установки большего масштаба, с лучшими параметрами, которые здесь у себя мы создать сейчас не можем. А климатическую трубу мы будем развивать почти с нуля. Поэтому сейчас мы строим модельную установку здесь, у себя, чтобы решить все проблемы, которые могут возникнуть», — отметил Андрей Сидоренко. Новые трубы позволят проводить исследования на бОльших моделях самолетов, повысить параметры потока (давление, температуру) и еще сильнее приблизить эксперимент к условиям реального полета.
Для Междисциплинарного исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики ученые ИТПМ СО РАН спроектировали три большие установки. Это климатическая аэродинамическая труба для изучения проблем обледенения и в целом климатических проблем как в авиационной технике, так и в транспортном машиностроении, импульсная труба на высокие числа Маха, чтобы можно было испытывать крупногабаритные макеты изделий. Третья установка —плазменный стенд, на котором будут исследовать проблемы теплообмена невозвращаемых аппаратов или аппаратов, совершающих длительные полеты в атмосфере с большими скоростями. «Вторые две трубы являются развитием уже отработанных у нас технологий. Это установки большего масштаба, с лучшими параметрами, которые здесь у себя мы создать сейчас не можем. А климатическую трубу мы будем развивать почти с нуля. Поэтому сейчас мы строим модельную установку здесь, у себя, чтобы решить все проблемы, которые могут возникнуть», — отметил Андрей Сидоренко. Новые трубы позволят проводить исследования на бОльших моделях самолетов, повысить параметры потока (давление, температуру) и еще сильнее приблизить эксперимент к условиям реального полета.
Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН выступил инициатором создания Центра нанотехнологий. Миссией Центра должно стать обеспечение мирового уровня научных исследований, технологий и разработок в области новых материалов (и, как следствие, элементной базы) для микро-, нано-, био- и оптоэлектроники и нанофотоники, СВЧ-электроники, сенсорики, радиационно стойкой и в перспективе квантовой электроники и инфракрасной техники.
Сотрудники лаборатории № 15 ИФП СО РАН показали комплекс ростовых установок для создания гетероэпитаксиальных структур на основе соединений кадмий — ртуть — теллур методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Такие структуры применяются для производства фоточувствительных матриц в инфракрасной области спектра. «Метод предполагает, что в условиях сверхвысокого вакуума на подложку подаются пары вещества. Дальше кристалл растет на структуре этой подложки, а наше оборудование позволяет манипулировать составом и физическими свойствами появляющегося слоя с нанометровой точностью. Весь технологический процесс разбит на несколько участков, и каждая вакуумная камера выращивает определенное соединение. В целом система работает как небольшой конвейер», — рассказал заместитель директора по научной работе, и.о. заведующего лабораторией № 15 молекулярно-лучевой эпитаксии соединений А2В6 ИФП СО РАН доктор физико-математических наук Максим Витальевич Якушев.
По словам ученых, гетероэпитаксиальные структуры на основе соединений кадмий — ртуть — теллур будут использоваться в новых вычислительных системах, которые придут на смену дошедшей до своего предела современной электронике. Например, на их основе можно сделать источники излучения на диапазон длин волн от 20 до 50 микрон (это не под силу ни одной другой полупроводниковой системе в мире). Сейчас идет этап становления принципов новой электроники.
Сегодня на повестке дня не только развитие проектов для будущих междисциплинарных центров, но и обновление имеющегося оборудования институтов. «Министерство науки и высшего образования РФ в рамках реализации национального проекта провело конкурс на предоставление средств на обновление приборной базы ведущих научных организаций. Организации ННЦ (14 институтов) получат на эти цели почти миллиард рублей. Это более 20 % от всего объема средств, которые будут предоставлены по федеральной программе. Из них Институт теплофизики получит почти 40 миллионов рублей, более 40 миллионов получит ИТПМ, а Институт физики полупроводников получит более 160 миллионов рублей. Уже в ближайшие месяцы будет закуплено новое технологическое оборудование», — рассказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Владимирович Васильев.
- Подробнее о Высокие технологии в Сибири
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии