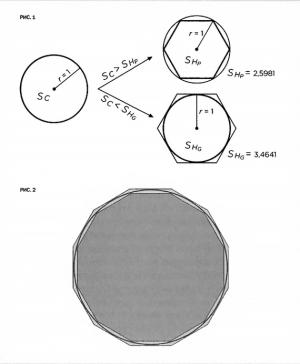Не совсем научная полемика
Вспомнился эпизод из 2007 года. В Доме ученых Академгородка проходила международная научная конференция по проблемам демографии, в которой принимала участие солидная группа ученых из Германии. И вот, где-то уже «под занавес», разгорелся спор между одним участником и председателем. Председатель – на правах модератора – потребовал от спорщика «успокоиться» и замолчать. Со стороны это выглядело очень забавно. Рядом со мной сидел немецкий профессор: всем своим видом он показывал сожаление от увиденного. Зарубежный гость прекрасно говорил по-русски. Заметив мое внимание, он наклонился ко мне и с грустью произнес: «К сожалению, у вас нет культуры полемики». То есть, он не понимал, как можно несогласие по какому-то вопросу превращать в банальную перебранку. Как-то это всё происходило не вполне академично.
Я вспоминаю этот эпизод всякий раз, как только нахожу очередное «откровение» относительно проблемы глобального потепления. Хотим мы того или нет, но тема приобрела ярко выраженный идеологический оттенок. Общественность, ведомая теми или иными авторитетами, четко разделилась на две партии. Одни рассуждают в полном согласии с главной международной повесткой – признают угрозу глобального потепления и перечисляют грядущие проблемы. Другие становятся в позу непоколебимых хранителей правды и начинают разоблачать «мировой заговор». Вроде бы, ничего экстраординарного в том нет. В стране, как-никак, давно стал возможен плюрализм мнений. Однако есть здесь один принципиальный момент, вызывающий искреннее огорчение.
Дело в том, что проблема глобального потепления с самого начала поднималась представителями академической науки, да и без соответствующих компетенций адекватно осмыслить ее вряд ли возможно. Казалось бы, и освещаться она должна с академических трибун, а значит, и полемика здесь возможна сугубо академическая, без всякой идеологии и разделения на враждующие партии. Подчеркиваю, так должно происходить по логике вещей.
Но что у нас происходит на практике? Я не буду сейчас вспоминать о шведской школьнице, бросающей упреки мировым лидерам. Возьмем только нашу, российскую ситуацию, где страсти закипели еще до того, как мы узнали про эту молодую активистку. Особенность нашей ситуации в том, что лидеры указанных «партий» совсем не стремятся к тому, чтобы встретиться за общим столом и в честном открытом споре доказать свои взгляды. В принципе, поскольку мы имеем дело с академической темой, то было бы вполне уместно обсудить ее именно в таком – строго академическом – формате. Вместо этого каждая «партия» старается декларировать свои взгляды в собственном «партийном кружке». Уличать оппонентов во лжи предпочитают в границах своего «междусобойчика», не выходя на открытый диспут, да еще в режиме реального времени.
Прежде всего, это касается наших «правдорубов», вещающих о «мировом заговоре» и время от времени предрекающих наступление нового ледникового периода. Шведская школьница, как показали январские события, дала им еще один повод напомнить о себе и объявить глобальное потепление мифом. Так, в январе этого года известный разоблачитель этого «мифа» - геофизик Александр Городницкий – в очередной раз воспроизвел свой тезис о том, будто тема глобального потепления была впервые сформулирована американским политиком Альбертом Гором. Именно так – «впервые». Альберт Гор, дескать, написал на эту тему книгу-страшилку, по которой был снят документальный фильм. Таким путем, мол, человечество ознакомилась с идеей глобального потепления. «Основная идея, изложенная в книге и фильме, состояла в том, что главной причиной глобального потепления является выброс промышленного углерода в атмосферу. Утверждалось: в результате этого возникает так называемый парниковый эффект, который приводит к резкому подъему температуры на поверхности нашей планеты», - уточняет Городницкий. На его взгляд, и книга, и фильм представляют собой «собрание ошибочных и неграмотных климатических “страшилок”». И вообще, все разговоры о глобальном потеплении, по мнению нашего разоблачителя, - сплошная политическая компания международного масштаба.
Лично мне не совсем понятно, почему геофизик Городницкий заочно полемизирует с политиками, обходя вниманием своих коллег – других геофизиков, утверждающих обратное. Вот цитата из книги именно такого геофизика, климатолога с мировым именем – Михаила Будыко: «За последнее столетие, - пишет он, - количество углекислого газа в атмосферном воздухе увеличилось примерно на одну четверть, причем скорость накопления этого газа постепенно возрастает. Простые расчеты показывают, что через несколько десятилетий масса углекислого газа в атмосфере может удвоиться, после чего рост количества этого газа будет продолжаться».
Цитата взята из его книги «Путешествие во времени». Сама же книга была написана еще в 1989 году. То есть в то время, когда про Альберта Гора еще никто не слышал. Здесь же автор указывает на то, что воздействие углекислого газа на природу двояко. С одной стороны, он благоприятствует росту растений. Но с другой, создает так называемый парниковый эффект, который «обусловил повышение средней температуры нижнего слоя воздуха на несколько десятых градуса». И далее: «Увеличение этой массы в ближайшие десятилетия может повысить среднюю температуру на несколько градусов, что приведет к крупнейшему изменению природы на всей нашей планете».
Мы привели здесь мнение ученого, а не политика. Причем, высказано оно было более тридцати лет назад. Принципиально еще и то, что рост глобальных температур прямо увязывается им с хозяйственной деятельностью человека. Можно ли, в таком случае, назвать всемирно известного советского геофизика и климатолога творцом «мифа» о глобальном потеплении? Вопрос далеко не риторически - ввиду нынешнего накала страстей.
Показательно, что наши разоблачители рассуждают на эту тему так, будто от имени науки вскрывают некую ложь, разносимую политиками и разными общественными деятелями. Именно такой месседж они адресуют своим читателям. Мол, политики вводят вас в заблуждение, а мы, ученые, стараемся донести до вас правду, разоблачить заговор, раскрыть коварные планы обманщиков и дилетантов… Подозрительно здесь то, что некоторые тезисы, выдвинутые далеко не политиками (а такими же учеными) сходу отметаются как необоснованные или надуманные. Казалось бы, самое время включиться в открытую академическую дискуссию, обменяться на глазах у широкой аудитории доводами со своими оппонентами из числа ученых. Но вместо публичной дискуссии мы получаем непрерывный «междусобойчик», где разоблачители – с видом умудренных гуру – просвещают свою паству из числа неспециалистов.
Вот еще один показательный пример. В конце декабря прошлого года в газете «Завтра» вышло интервью с академиком РАН Владимиром Котляковым. Ученый подвергнул сомнению тезис об антропогенном характере климатических изменений. Понятно, что у такого серьезного исследователя на то есть свои аргументы и он, конечно же, вправе в чем-то сомневаться. Однако для нас здесь важен сам контекст беседы.
Интервью было выстроено так, словно единственными оппонентами академика по данной теме являются психически неуравновешенные экоактивисты (включаю скандально известную шведскую школьницу), а также западные политики, идущие на поводу у этих сумасшедших. Дескать, Грета Тумберг «подняла на щит» ложный тезис, и вот теперь серьезному специалисту приходится все расставлять на свои места. А как же быть с учеными, которые в свое время этот тезис не только выдвигали, но и доказывали?
К сожалению, в разоблачительных публикациях мы обычно не находим их имен. Нам пытаются внушить мысль, будто вся проблема упирается исключительно в политику, и именно из-за этой самой политики в общественном сознании циркулирует «миф» о глобальном потеплении. Наука якобы стоит где-то в сторонке, и лишь отдельные, не ангажированные ученые, пытаются в одиночку доносить людям правду. Именно такое впечатление создается после прочтения очередной разоблачительной публикации.
Разумеется, нет ничего хорошего в том, что активисты и политики доводят серьезные идеи до крайности, обосновывая нелепые практические шаги в деле так называемой борьбы с глобальным потеплением. Но даже если критика парниковой теории справедлива, все же необходимо понимать, что общественность нуждается в ясности и в определенности. Тезис об антропогенном воздействии на климат как раз и дает такую определенность. В этом заключается социальное значение парниковой теории, потому-то к ней и восприимчивы политики. Есть проблема, есть поиск ее причин, есть конкретное решение по исправлению ситуации. Так что заговор здесь совсем не при чем.
В таких условиях нелепо и даже комично выглядит попытка изобразить научную объективность через невнятные, ни к чему не обязывающие утверждения. Мол, может произойти либо то, либо другое, да и вообще - что угодно: возможно и потепление, но так же возможно и похолодание. И случится это через тысячу лет, а может, лет через десять. А может, совсем ничего не случится... Дескать, тут так много факторов, что определенно ничего сказать нельзя. Представьте, что вам в подобной манере ставят диагноз в поликлинике. Думаю, Ньютону за такую науку было бы стыдно.
Николай Нестеров
- Подробнее о Не совсем научная полемика
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии