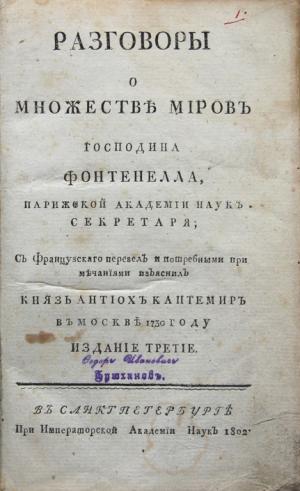Продолжаем наш цикл, посвященный истории научно-популярной литературы. Вслед за итальянским астрономом Галилеем и английскими джентльменами из Оксфорда на эту стезю вступили и французы, у которых с середины XVII века появилась своя Академия наук (учрежденная Людовиком XIV по предложению Жан-Батиста Кольбера). А раз есть наука, возникает потребность в разъяснении ее пользы для власти и общества, чем собственно и занимаются популяризаторы научного знания век от века.
Бернар Ле Бовье де Фонтенель родился в 1657 году в Руане, в семье адвоката нормандского парламента и Марты Корнель, сестры сразу двух известных французских драматургов – Пьера и Тома Корнелей. Проведя детство в иезуитском колледже (где он весьма радовал своих наставников успехами в учебе) семнадцатилетний Бернар добился разрешения уехать к дядям в Париж. Там он сначала попробовал, по примеру отца, сделать карьеру юриста (неудачно), потом, по примеру дядей, написал несколько пьес (тоже не имевших успеха у публики). После писал стихи и прозу с переменным успехом. Так, в 1683 году «Диалогах мертвых» он придумал собрать вместе древних и новых авторов. Поэтесса Сафо беседовала у него с Лаурой Петрарки, Сократ с Монтенем, Анна Бретонская с Марией Французской. Книга имела успех. А несколько следующих – напротив, подверглись резкой критике.
В 1686 году Фонтенель снова экспериментирует с жанрами – пишет книгу-рассуждение «Разговоры о множестве миров». Само название в то время звучало достаточно провокационно, ведь христианство учит, что мир один и он создан Творцом. По сути книга была популярным изложением сформулированной ранее гелиоцентрической модели мироздания и связанных с ней космологических представлений.
Сам Фонтенель не привнес никаких новых научных знаний в эту область, он не был первым, кто попытался вывести тему гелиоцентризма за пределы довольно узкого круга ученых мужей, но, надо признать, что его попытка стала первой из по-настоящему удавшихся.
Произошло это потому, что Фонтенель, имевший богатый опыт на литературном поприще, умел писать интересно и понятно для широкой публики. Потому и форма была выбрана нарочито простая: автор предлагает записи бесед, в которых он, якобы, преподавал азы космологии молодой и очаровательной маркизе де ла Мезанжер.
Книга состоит из нескольких таких бесед. В первый вечер он объявляет маркизе, что Земля — это планета, вращающаяся вокруг своей оси и вокруг Солнца. В этой беседе он, кстати, дает интересный прогноз: поскольку Земля вращается вокруг своей оси, то наблюдатель, расположенный на каком-нибудь объекте над планетой, увидит проплывающих поочередно перед его глазами диких ирокезов, французских маркиз и прекрасных черкешенок. Космонавты с МКС передают привет французскому автору.
Во второй вечер автор доказывает, что Луна — обитаемая земля. Маркиза спорит – Луна совсем не похожа на Землю и Фонтенель соглашается с ней, на Луне не видно облаков, да и моря, может, вовсе и не моря. Ну так, и жители Луны, скорее всего, не похожи на людей, парирует он, ведь будь они людьми, должны были произойти от Адама, а это невозможно.
Третий и четвертый вечера посвящены Марсу и Венере, которые, по словам Фонтенеля тоже обитаемы. А чтобы объяснить, как планеты движутся по солнечной орбите и даже сами имеют спутники, он излагает маркизе сложную теорию вихрей Декарта. На пятый вечер он еще дальше раздвигает границы мира: неподвижные звезды, говорит маркизе автор, это такие же солнца. И у каждой, возможно, есть свои планеты.
Книга Фонтенеля имела огромный успех, она переведена почти на все европейские языки и выдержала множество изданий. По сути, он прервал многовековую паузу после появления поэмы Лукреция «О природе вещей», вернул к жизни литературный жанр, в котором научно-философское содержание сочеталось с занимательностью изложения.
Сам автор с каждым годом все больше и больше увлекался именно наукой, а не литературным творчеством. И в 1691 году он становится действительным членом той самой Французской академии наук, о которой говорилось в начале. Его «Рассуждения о множественности миров» стали одной из работ, давших основания для этого. Фонтенель носил звание академика ни много ни мало как 66 лет (он дожил до столетнего юбилея), причем свыше 40 лет был непременным секретарем Академии. Написал ряд работ по философии, математике, истории и стал, по сути, родоначальником жанра научной биографии. Он выступил с инициативой публикации в академическом журнале после смерти того или иного выдающегося ученого, так называемого «похвальное слово» о жизни и научной деятельности покойного. Такие «похвальные слова» были больше, чем просто некролог, это были художественные, развернутые жизнеописания. Большинство из них Фонтенель написал сам.
В июне 1717 года, при посещении академии Петром 1, Фонтенель играл немалую роль в устроенном московскому гостю торжественном приеме, годом позже известил Петра об избрании его в члены Французской академии. А после смерти первого русского императора написал «похвальное слово» и о нем, которое позже было переведено на русский язык.
Его «Рассуждения о множественности миров» добрались до русского читателя еще при жизни автора. Ее русский переводчик - знаменитый сатирик Антиох Кантемир - по таланту не уступал Фонтенелю и отлично справился со своей задачей, несмотря на юный (ему тогда было всего 20 лет) возраст.
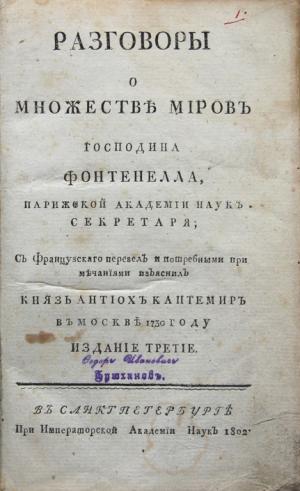 Закончив перевод в 1730 году, Кантемир решил прибегнуть к посредничеству российской Академии Наук для того, чтобы издать русский вариант книги. Он обратился к своему наставнику –академику Гроссу, который тогда жил в Москве в качестве домашнего учителя в доме влиятельнейшего сановника – Андрея Остермана. В силу своего положения Гросс пользовался большим уважением в глазах Шумахера, через руки которого проходили все издания Академии. Осенью 1731 года Гросс пишет Шумахеру письмо, где предлагает рукопись Кантемира к изданию. Шумахер ответил: «Если князю Кантемиру будет угодно переслать мне свой перевод книги Фонтенеля De la pluralite des mondes, то я тотчас же озабочусь о печатании. Только я бы предварительно желал знать, одобрил ли это его графское сиятельство (граф Остерман), а также его преосвященство архиепископ (Феофан Прокопович), потому что книга такого содержания, что её нельзя печатать без министерского разрешения».
Закончив перевод в 1730 году, Кантемир решил прибегнуть к посредничеству российской Академии Наук для того, чтобы издать русский вариант книги. Он обратился к своему наставнику –академику Гроссу, который тогда жил в Москве в качестве домашнего учителя в доме влиятельнейшего сановника – Андрея Остермана. В силу своего положения Гросс пользовался большим уважением в глазах Шумахера, через руки которого проходили все издания Академии. Осенью 1731 года Гросс пишет Шумахеру письмо, где предлагает рукопись Кантемира к изданию. Шумахер ответил: «Если князю Кантемиру будет угодно переслать мне свой перевод книги Фонтенеля De la pluralite des mondes, то я тотчас же озабочусь о печатании. Только я бы предварительно желал знать, одобрил ли это его графское сиятельство (граф Остерман), а также его преосвященство архиепископ (Феофан Прокопович), потому что книга такого содержания, что её нельзя печатать без министерского разрешения».
Пока Шумахер перестраховывался, согласовывая издание с высшими сановниками, Кантемир уехал в Лондон по дипломатической линии. В итоге, его перевод пролежал невостребованным еще семь лет. Вернувшись в Россию, Кантемир вновь обратился к Шумахеру с просьбой о русском издании Фонтенеля. Сверхосторожный немец выдвинул новое условие: заменить заголовок книги на что-то менее крамольное. Кантемир предлагает назвать «Разговоры астрономические, в которых той науки нужнейшие знания кратко и разуминительно к общества понятию изъяснены», но Шумахер счел новый вариант еще менее благопристойным.
В итоге книга была напечатана только в 1740 году под названием «Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла парижской академии наук секретаря. С французского перевел и потребными примечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве в 1730 году». Один из экземпляров был подарен императрице Анне Иоановне. Этот экземпляр с дарственной надписью сохранился до наших дней. Остальным повезло меньше, в 1756 году решением Синода книга была признана «смущающей», большая часть тиража была изъята и уничтожена. Но через пять лет Ломоносов осуществил второе издание книги, ни на букву не изменив текст. После этого попыток запретить книгу в Российской империи больше не предпринималось.
Перевод, сделанный Кантемиром, имеет значение не столько с точки зрения популяризации гелиоцентризма, сколько для развития русского языка. Его научно-литературный словарный запас был в то время в зачаточном состоянии, для обозначения многих понятий банально не хватало слов, и Кантемиру пришлось придумать их, поскольку он изначально делал текст для широкой публики, а не околоакадемического сообщества, которое прекрасно читало французские тексты на языке оригинала.
Некоторые изобретенные им слова благополучно дожили до наших дней, например, «понятие» (в смысле идеи), «сосредоточение», «наблюдение», «плотность» и т.д. Другие, такие как «предразсуждение» (предвзятое мнение), «имагинация» (воображение), «звездозаконие» (астрономия), «словесница» (логика), вышли из употребления и сегодня демонстрируют лишь полет мысли переводчика. Ряд терминов, которые сегодня являются общеизвестными - «машина», «опера», «театр», «экземпляр», «герой», «климат», «система», «материя», «карта» - автору пришлось растолковывать читателю в примечаниях.
Подводя итог, можно сказать, что перевод Кантемира сам по себе стал литературным событием, положившим начало светской научно-популярной литературе в нашей стране. И книга Фонтенеля нам интересна еще и с этой точки зрения.
Сергей Исаев