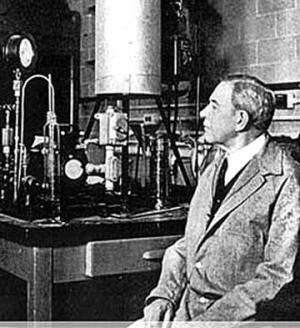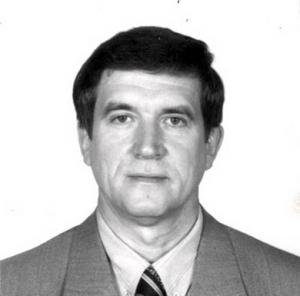Тайнопись как наука
Прогремевшая на весь мир история беглого контрактника американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена обратила внимание широкой общественности на проблему сохранения конфиденциальности и секретности информации не только для частных лиц и фирм, но и высших должностных лиц государств. Как оказалось, АНБ прослушивала разговоры почти четырех десятков глав государств мира (Германии, Бразилии, Мексики и многих других). Пытались американцы прослушать и президента Путина, но безуспешно. И это не может не вызвать гордость за нашу российскую криптографию.
Разоблачения Сноудена обратили внимание также и на криптографию, важную сферу научной и практической деятельности, которая между тем обычно не привлекает широкого внимания. Криптография – наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним) и аутентичности (целостности и подлинности) информации. Криптография – одна из старейших наук, ее история насчитывает несколько тысяч лет. Но поскольку существует наука о методах и способах обеспечения секретности информации, то обязательно должен был появиться и раздел знаний о том, как эти секреты раскрывать. Вечным соперником криптографии был и остается криптоанализ – наука о методах дешифрования секретной информации. Вместе криптография и криптоанализ образуют криптологию – науку, которая изучает методы зашифрования и дешифрования информации.
Краткий экскурс в историю криптологии для автора этой статьи провела старший научный сотрудник Института математики СО РАН Наталья Николаевна Токарева – руководитель научного семинара «Криптография и криптоанализ».
Как уже было сказано, криптография и ее вечный спарринг-партнер криптоанализ существуют с глубокой древности. Хотя сами эти термины появились относительно недавно. На Руси вместо этого был хороший термин – тайнопись (и как его противоположность – разгадка «чуждых письмен»). Нехватка места не позволяет сделать полный обзор истории криптографии и криптоанализа хотя бы с того времени, когда в Древней Греции спартанцы применяли свой знаменитый шифр «сцитала», а его дешифрованием занимался великий античный философ Аристотель. Стоит только отметить, что сферой применения шифрования и дешифрования информации были в первую очередь военное дело, дипломатия и разведка, что часто было одним и тем же, коммерция, в самом широком смысле слова, не зря появился термин «коммерческая тайна». Иногда приемы и методы шифровки и дешифровки применялись и в других областях, вплоть до истории и археологии. Так, известный французский археолог Шампальон в начале XIX века смог благодаря приемам дешифрования прочитать древнеегипетские иероглифы. Но именно война и, говоря по-современному, государственная безопасность, были главными «стимуляторами» развития криптографии и криптоанализа.
В 1628 году при осаде французскими войсками города Ла-Рошель, французский подданный Антуан Россиньоль смог дешифровать перехваченные сообщения и тем самым помог победить армию гугенотов. Осада Ла-Рошели описана в любимом романе нашего детства «Три мушкетера». Но Александр Дюма не написал, что не шпаги мушкетеров, а искусство дешифрования принесло Франции победу. А вскоре после этого, правительство Франции привлекло к работе множество криптографов, которые вместе образовали так называемый «Черный кабинет». Так назвали орган, занимающийся перлюстрацией и дешифрованием корреспонденции, а также помещение, которое использовалось для этих целей. Чтение чужих писем становится важным государственным делом, как видим, традиция почтенная, поэтому американское АНБ всего лишь придало «черным кабинетам» планетарные масштабы.
В России датой учреждения государственной шифровальной службы можно считать 1549 год – образование «посольского приказа» с «цифирным отделением», это было время правления Ивана Грозного. Но первым поставил шифровальную службу на действительно профессиональную основу Петр Великий. При нем криптографическая служба находилась под непосредственным руководством канцлера Головкина и вице-канцлера Шафирова. Тогда же начинают заниматься не только шифрованием своих сообщений, но и дешифрованием чужих, то есть появляется и криптоанализ. Преемники Петра продолжили приобщение к европейской цивилизации: при Елизавете Петровне в России появляются свои «черные кабинеты» – служба перлюстрации почты.
К началу XIX века российская криптография и криптоанализ становятся одними из лучших в мире. Подтверждением этому является дешифрование переписки Наполеона Бонапарта во время Отечественной войны 1812 года. Это в немалой степени способствовало успехам русской армии.
Развитие криптографии и криптоанализа шло параллельно с развитием научно-технического прогресса. Появление в XIX веке телеграфа («интернета викторианской эпохи»), а затем телефона и радио остро поставило вопрос обеспечения секретности телеграфных сообщений, телефонных разговоров и переговоров по радио и соответственно способов преодоления этой секретности. Само дело шифрования и дешифрования начинает автоматизироваться, в 20-х годах ХХ века для этого создаются электромеханические машины. Самыми известными из них становятся «Энигмы» – семейство электромеханических роторных машин. Они используются в государственных и военных службах ряда стран мира, а также в коммерческих целях. Всемирную известность (в том числе и через литературу и кино) получает германская военная модель «Энигмы». Англосаксы смогли дешифровать сообщения, передаваемые с ее помощью. Но дело было не в слабости немецких шифров, а в том, что неповрежденные экземпляры машины попали в руки союзников, но сами немцы об этом не знали. И вновь невидимая «война шифров» сильно повлияла на ведение реальных боевых действий.
Что касается России, то ее криптографические и криптоаналитические службы вплоть до 1917 года в целом продолжали оставаться на мировом уровне. Хотя технологическое отставание России от ведущих стран Запада проявлялось и в этой сфере.
В 1917 году криптографические службы Российской империи рухнули вместе с ней. Однако вскоре они стали возрождаться под другими знаменами, но для решения прежних задач, при этом государственная безопасность и военное дело в еще большей мере ставились во главу угла. В мае 1921 года при ВЧК создается Спецотдел по криптографическим делам. По сути это была спецслужба внутри спецслужбы, все распоряжения Спецотдела по вопросам криптографии были обязательны для выполнения всеми государственными и партийными органами, а подчинялся Спецотдел только политбюро ЦК РКП(б), на тот момент высшему реальному органу власти в стране. Большевики в «государственной тайнописи» показали свою способность превзойти монархию по трем параметрам – централизации, использованию технологических новшеств и обеспечению секретности. В последнем первый глава шифровального дела советской республики Глеб Бокий оказался таким профессионалом, что даже его собственная подлинная биография до сих пор по-настоящему не написана. Но именно сочетание централизации, сверхсекретности и внедрения самых передовых научных достижений и технологий – это три основных фактора, которые обеспечили не просто мировой уровень советских шифровальных и дешифровальных служб, а их лидирующее положение по целому ряду позиций.
Рассказ о советской криптологии требует отдельного места и выводит нас на современную криптографию и криптоанализ. Также отдельная тема – математизация криптографии, что позволило криптографии стать по-настоящему точной наукой. И то и другое можно проследить на примере Института математики СО РАН. В советское время он, в числе прочего, занимался и тем, благодаря чему у коллег Сноудена ничего не вышло с прослушкой российского президента. Однако сейчас другие времена, российская криптография в значительной своей части «сняла погоны». О современном состоянии криптографии и криптоанализа, их развитии, в том числе и в Институте математики СО РАН, в следующей статье.
Юрий Курьянов
- Подробнее о Тайнопись как наука
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии