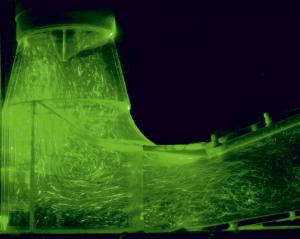«Утечка мозгов»: иногда они возвращаются
За последние 20 лет такие выражения, как «утечка мозгов» и «нищенские зарплаты ученых», стали устойчивыми. Бедственное положение российской науки уже никого не удивляет. На этом фоне руководством страны озвучена новая громкая инициатива по улучшению условий жизни и работы ученых, по крайней мере, молодых. Еще в конце прошлого Владимир Путин предложил отправлять молодых специалистов на заграничные стажировки, по сути, соединив давнюю российскую традицию обучения за рубежом и советскую практику «распределения» на работу. Ученые сходятся во мнении, что инициатива эта однозначно полезная, но как она будет реализована, это отдельный вопрос. Сможет ли государство обеспечить вернувшимся молодым ученым условия для работы? Так или иначе, эта тема теперь будет актуальна на фоне продолжающейся реформы РАН. Пока мы ждем первых вариантов законопроекта, эксперты «Свободной прессы» пытаются спрогнозировать, какой будет новая практика и к каким последствиям она может привести.
 Максим Кронгауз, доктор филологических наук, руководитель Центра социолингвистики Академии народного хозяйства и госслужбы, заведующий кафедрой русского языка РГГУ:
Максим Кронгауз, доктор филологических наук, руководитель Центра социолингвистики Академии народного хозяйства и госслужбы, заведующий кафедрой русского языка РГГУ:
— Эта инициатива запоздалая, но только отчасти. Я знаю, что подобная практика есть в Казахстане. Многие из студентов, действительно, не возвращаются, но система совершенствуются, и остальные студенты берут на себя более строгие обязательства. Конечно, такие стажировки во многих областях могли бы довольно сильно продвинуть наших ученых во многих областях; другое дело, что зачем возвращаться, если не будет базы, на которой молодой ученый привык работать, для продолжения исследований. Поэтому такая программа в отрыве от развития технической базы у нас не будет работать. А так она вполне разумная, и может быть, кстати, даже более разумная, чем система мегагрантов, о которой писали последние несколько лет.
«СП»: — «Технарям», инженерам, конечно же, есть смысл ехать за границу, чтобы работать на более развитой технической базе, а гуманитариям, вашим студентам-русистам, грубо говоря, что в Америке делать?
— Вообще гуманитариям, и даже русистам, есть смысл отправляться в заграничные командировки. Я вот русист, и мне стипендии крупных европейских университетов, которые я получал в молодости, очень помогали. Не надо недооценивать сам факт общения ученых из разных стран, в том числе гуманитариев.
Существование некой научной среды не менее важно, чем техника, приборы. В гуманитарной сфере, кстати, это было бы менее дорогостоящим проектом, чем в технической. И кроме всего прочего, это поднимет престиж науки в глазах молодых людей и привлечет туда новое поколение.
«СП»: — А можно сказать, что и технические базы немаловажны для тех, кто занимается «точными» областями гуманитарных наук — к примеру, сравнительно-историческим языкознанием, математической лингвистикой?
— Применительно к лингвистике нужно говорить в первую очередь о тех, кто занимается когнитивными исследованиями: связью языка и мышления, психолингвистикой, нейролингвистикой — в этих областях как раз можно сильно поднять уровень нашей науки за счет знакомства с европейским опытом, где это сегодня хорошо развивается.
Но опять же, как обеспечить возвращение, рабочие места и достойные зарплаты?
 Олег Богомолов, академик РАН, долгое время — директор Института международных экономических и политических сравнений:
Олег Богомолов, академик РАН, долгое время — директор Института международных экономических и политических сравнений:
— Это в традициях российских — посылать студентов, особенно проявивших себя, за границу на длительную практику для овладения новыми технологиями и языком. Мой отец учился в Императорском техническом училище, и он сам и его сверстники бывали за границей и показывали там себя с лучшей стороны.
Он рассказывал мне такую историю. Приходит он в одну американскую инженерную фирму, в которую должен был устроиться на работу, показывает им свои дипломы. Ему говорят: хорошо, вот мы вам сейчас покажем проект моста, а вы оцените, настолько надежным он получится. Отец смотрит: такой мост обвалится. Поздравляем, он уже обвалился, берем вас на работу — так принимали тогда наших выпускников.
«СП»: — А сейчас как их встречают?
— Сейчас Россия, конечно, сильно откатилась назад в научном развитии, упал уровень подготовки и технических, и гуманитарных кадров, и конечно, государству нужно не скопидомничать, а посылать людей на длительную стажировку за границу, но конечно, при наличии каких-то условий, что они вернутся. Я много раз посылал своих студентов, но они не возвращались. Зачем возвращаться, если нет возможности найти работу или приходится работать за нищенскую зарплату… Никто не хочет, и это надо понять.
Так что инициатива Путина вполне разумна, но только она должна быть щедрой. То есть, платить людям надо в соответствии с их образованием…
А вот, кстати, олигархов наших и высших чиновников нужно «урезать» прогрессивным налогом. Ну, как может Игорь Сечин (президент государственной нефтяной компании «Роснефть» — Прим. ред.) получать, как пишут, зарплату в сотни миллионов в год?.. Такого нет нигде в мире. Он не создал никаких изобретений; не знаю, как он управляет своей компанией — может быть, и хорошо, но все равно он не должен быть выше топ-менеджера, допустим, американской компании.
«СП»: — Вы говорили, что ваши студенты не возвращались на Родину из зарубежных командировок; у вас, насколько я понимаю, экономисты, то есть гуманитарии, а как обстоит дело у «технарей»?
— Я могу только сказать, что в одних США сейчас работает 16 тысяч ученых — выходцев из России, в Германии около 10 тысяч. У нас же осталось докторов и профессоров 25 тысяч. Хорошо, что Путин вспомнил о них — пора бы ему уже одуматься. Сегодня вахтер в нашем Институте экономики РАН, где я работаю, получает больше, чем я: он 40 тысяч, а я 25.
- Подробнее о «Утечка мозгов»: иногда они возвращаются
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии