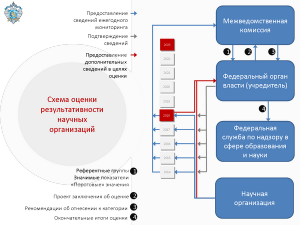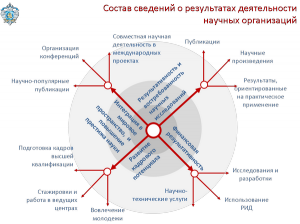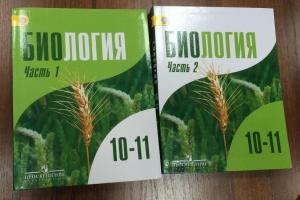Трудно найти какую-либо сферу нашей жизни, на которую бы не повлияло военное дело. За космическими технологиями, ядерной энергетикой и другими величайшими прорывами человечества стоит армия. Интернет появился в результате эволюции ARPANET – проекта агентства Минобороны США по перспективным исследованиям (DARPA). СВЧ-печь запатентовал инженер американской оборонной компании «Raytheon» Перси Спенсер (примечательно, что военная разработка в наши дни переживает «второе рождение»: сегодня СВЧ-оружие, является одной из самых перспективных разработок военных специалистов). Эволюция технологий неизбежно влияла и на броню, когда-то весившую многие десятки килограммов. Но эта ситуация меняется.
Развитие микроэлектроники позволяет создавать миниатюрные датчики, передающие огромное количество информации, в том числе и о состоянии здоровья солдата, GPS-навигация становится всё точнее, исследователи метаматериалов сулят чудеса, а использование этих технологий в очередной раз повлияет на методы ведения войны.
К разработке прототипов усовершенствованной экипировки в конце 80-х годов прошлого века приступили самые разные страны. Однако буквально за последние пять лет это стало по-настоящему массовым трендом.
И это неудивительно, ведь, как показал иракский и украинский кризис, пока что сражения начинает, ведёт и выигрывает человек, а не машины. И для того, чтобы понять, какими будут войны будущего, нужно знать, что будет надето на этого человека.
Великобритания
Чтобы понять, насколько армия важна для островной монархии, достаточно взглянуть на оборонный бюджет Великобритании. Например, в 2012-м году его размер составлял 60,8 миллиардов долларов (прим.: здесь и далее используются данные из справочника «Miltary Balance» от International Institute for Strategic Studies): на тот момент он был третьим в мире и опережал российский. После урезания бюджетных расходов (чем многие остались недовольны) ситуация изменилась, однако и в 2013-ом году британскую армию опережают всего лишь четыре страны: США, Китай, РФ и Саудовская Аравия. При этом войска не простаивают: в Ираке с 2003-го по 2011-й год прошли службу около 28 тысяч солдат и офицеров, а контингент британских сил в Афганистане с 2009-го по 2011-й год составил 10 тысяч человек. Немало внимания уделяется и НИОКР: на эту сферу в прошлом году было выделено почти 2 миллиарда фунта стерлингов.
Разработка программы FIST (Future Integrated Soldier Technology) началась в 1997-м году. В январе 2005-го начались первые испытания прототипов. Целью программы является оптимизация пяти основных функций: работы комплекса разведки, управления и связи (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence, C4I), поражающего действия (улучшение точности оружия), мобильности (встроенная навигационная система и снижение веса и габаритов оборудования), выживаемости (усовершенствование обмундирования и брони), а также боевой устойчивости (упрощение материально-технического обеспечения).
 Комплект боевой экипировки позволяет командирам постоянно быть в курсе местонахождения своих подчинённых. Важно отметить, что экипировка предназначена не для отдельного военнослужащего, а рассчитана на четырёх пехотинцев, так как это наименьшее тактическое и огневое подразделение (звено или огневая группа) в ВС Великобритании: командира, гранатомётчика, стрелка с лёгким пулемётом L86A2 и снайпера с лёгкой высокоточной винтовкой.
Комплект боевой экипировки позволяет командирам постоянно быть в курсе местонахождения своих подчинённых. Важно отметить, что экипировка предназначена не для отдельного военнослужащего, а рассчитана на четырёх пехотинцев, так как это наименьшее тактическое и огневое подразделение (звено или огневая группа) в ВС Великобритании: командира, гранатомётчика, стрелка с лёгким пулемётом L86A2 и снайпера с лёгкой высокоточной винтовкой.
Больше всего оборудования достанется командиру: дальномер, перископ, защищённая фото- и видеокамера, а также целый набор прицелов: для ближнего боя, дневной и тепловизионный. Известно, что у других пехотинцев также будут тепловизионные прицелы и приборы ночного видения, встроенные в шлем. Особый нашлемный дисплей может получать информацию с прицела и даёт возможность солдатам стрелять из-за укрытий, что призвано снизить риск получения ранений. Кроме того, на дисплее может отображаться информация об окружающей обстановке, позиция дружественных военнослужащих и другая полезная информация. Кстати, в случае проблем со связью данные отряду могут передаваться посредством БПЛА. Обмундирование на основе лёгких «дышащих» материалов позволяет снизить заметность в видимом, инфракрасном и радиодиапазоне, а также обеспечивает базовую защиту от поражающих факторов оружия массового поражения. Система работает на литий-ионных аккумуляторах.
В настоящий момент большая часть оборудования, входящего в комплект, прошла успешное тестирование (в том числе в Афганистане). Ожидается, что в 2015-ом году комплект боевой экипировки начнут поставлять в армию. Конечно, FIST не будут выдавать каждому солдату. Это по-прежнему останется уделом лишь небольшой части военнослужащих.
Франция
 Французский комплект FÉLIN (Fantassin à Équipementet Liaisons Intégrés, «комплексная система связи и экипировки пехотинца») по решению отдела закупок министерства обороны с 2003-го производит компания «Sagem». По условиям контракта, «Sagem» должна была поставить 22 500 экземпляров в 20 пехотных полков и ещё около 9 тысяч – в другие подразделения. К 2010-му году задача была выполнена. Ожидается, что производство второй версии комплекта начнётся в 2015-м году.
Французский комплект FÉLIN (Fantassin à Équipementet Liaisons Intégrés, «комплексная система связи и экипировки пехотинца») по решению отдела закупок министерства обороны с 2003-го производит компания «Sagem». По условиям контракта, «Sagem» должна была поставить 22 500 экземпляров в 20 пехотных полков и ещё около 9 тысяч – в другие подразделения. К 2010-му году задача была выполнена. Ожидается, что производство второй версии комплекта начнётся в 2015-м году.
FÉLIN является модульной системой с открытой архитектурой – это позволяет обновлять лишь часть компонентов. Командир оснащён системой COMDE (информационная тактическая боевая система), которая включает в себя планшет с возможностью отсылать сообщения, наблюдать за тактической обстановкой и следить за передвижениями неприятельских и дружественных сил (Blue/Red Force Tracking).
У рядовых бойцов, в свою очередь, есть устройство связи «человек-машина», подключённое к боевой информационной сети. Помимо этого, они оснащены GPS, а гарнитура OH-295 от французской компании «Elno» работает с использованием принципа костной проводимости – благодаря этому переговоры малозаметны, а качество связи заметно меньше зависит от внешних шумов. Использование этого набора электронных средств позволяет вести переговоры в режиме конференции, передавать друг другу видео- и фотоинформацию.
В набор входят самые разные приспособления: ночные, дневные и тепловизионные прицелы. Кроме того, бойцам предлагаются бинокли с телеметрическим измерителем и лазерным дальномером. В комплект снаряжения входит штурмовая винтовка FAMAS G2 (упрощённый и удешевлённый вариант). FAMAS оснащена особым прицелом, передающим информацию на дисплей, что даёт возможность солдату (как и в случае с FIST) вести огонь из укрытия.
Обмундирование, входящее в комплект экипировки FÉLIN, обладает полезными свойствами: оно устойчиво к возгоранию, поддерживает комфортный пододёжный микроклимат (благодаря технологии микроячеек), является достаточно прочной. В комплект входит вентиляционная и фильтрационная система, при использовании которой не запотевают очки. Кроме того, существует возможность приёма жидкой пищи.
Вес всего комплекта составляет около 30 килограммов (вместе с провиантом), стоимость – около 30 тысяч евро. Всего на вооружении стоят 22 588 комплектов, что делает эту программу наиболее масштабной и успешной – в 2009-ом году его для изучения собиралась приобрести даже российская армия.
Германия
 1600 комплектов первой версии экипировки германского производства IdZ (Infanterist der Zukunft), разработанноой компанией «EADS Defence Electronics» были испытаны немецкой армией в Афганистане, Косово и Конго. Улучшенную версию IdZ-ES (Expanded System) стала разрабатывать «Rheinmetall Defence». В 2013-м году министерство обороны Германии заключило с ней контракт на поставку 60 комплектов для 600 солдат: если FIST был рассчитан на действия трёх солдат и командира (звена или огневой группы), то «Gladius» (неофициальное название нового комплекта) предназначен для десяти человек (отделения).
1600 комплектов первой версии экипировки германского производства IdZ (Infanterist der Zukunft), разработанноой компанией «EADS Defence Electronics» были испытаны немецкой армией в Афганистане, Косово и Конго. Улучшенную версию IdZ-ES (Expanded System) стала разрабатывать «Rheinmetall Defence». В 2013-м году министерство обороны Германии заключило с ней контракт на поставку 60 комплектов для 600 солдат: если FIST был рассчитан на действия трёх солдат и командира (звена или огневой группы), то «Gladius» (неофициальное название нового комплекта) предназначен для десяти человек (отделения).
Всё обмундирование и снаряжение является модульным, что даёт возможность быстро перераспределять нагрузку и проводить боевые действия при температуре от −32 до +45. Интересной особенностью «Gladius» является ткань костюма: она способна защитить солдата от поражающих факторов химического оружия иприта и зомана (24 часа и 6 часов соответственно).
Система C4I встроена в разгрузочный бронежилет: на небольшом компьютере производства «NavICom» можно воспользоваться картой местности, следить за перемещением других солдат и получать информацию с БПЛА. Кроме того, можно обозначить какой-то объект и разослать эту информацию всему отряду. «Rheinmetall Defence» занимается разработкой различных датчиков: некоторые из них могут определять местоположение мин, а другие– даже позиции снайперов, которые, по заявлению компании, представляют большую опасность для солдат немецкой армии, проходящих службу за рубежом.
И, конечно же, каждый солдат оснащён лёгким прочным шлемом, гарнитурой, бронежилетом, прибором ночного видения и нашлемным дисплеем, а также цифровым компасом и инерциальной навигационной системой.
Хотя первые версии костюма критиковали за излишний вес, отзывы о второй версии от офицеров из Афганистана были намного благосклоннее.
Подполковник Шнебелт говорит: «Хай-тек в сфере обмундирования, боеприпасов и оружия на порядок выше всего, что было до этого. Это повышает боеспособность и ценность солдата. „Пехотинец Будущего“ – отличная система, которой я и солдаты довольны».
Япония
Про японские разработки доступны буквально крупицы информации. Известно, что испытания ACIES (Advanced Combat Infantry Equipment System) начались в 2008-ом году. Через два года контракт на поставку выиграла компания «Hitachi». В отличие от другого японского комплекта экипировки, в ACIES используются компоненты зарубежного производства. Часть электроники, впрочем, изготавливают местные фирмы. Так, компания «Shimadzu», производитель медицинского оборудования, отвечает за производство нашлемного дисплея (в 2012-м году был выложен один из патентов). На шлеме будет располагаться лёгкая (70 граммов) двухмегапиксельная тепловизионная камера NEC. Броня может защищать как от простых пуль, так и от бронебойных – при вставке керамических пластин.
Мало информации и о системе связи с другими солдатами на поле боя. Однако известно, что на спине будет располагаться компьютерная система с батареями, гироскопом, GPS. Охлаждать её будут большие вентиляторы. В качестве основного оружия используется автомат HowaType-89.
А наиболее интересной особенностью является небольшой шаровидный робот с камерой (они все-таки сделали Покемона?), который можно просто куда-нибудь забросить и получать от него информацию.
На первый взгляд возможности костюма выглядят достаточно скудно. Однако не стоит полагаться на первое впечатление. В 2013-ом году Япония выделила на оборону 51 миллиард долларов – это выше расходов Германии и близко к оборонному бюджету Франции: японские силы самообороны являются одними из наиболее высокотехнологичных в регионе. И хотя конституция Японии ограничивает развитие армии в стране, новое правительство стремится изменить ситуацию. В мае премьер-министр Японии Синдзо Абе выступил с заявлением о необходимости расширения спектра возможных сценариев использования вооружённых сил. Любопытно, что американское правительство положительно отнеслось к потенциальной реформе после того, как японская сторона присоединилась к санкциям против Российской Федерации. Впрочем, в ежегодно выкладываемом докладе «Defense of Japan» России уделяется небольшое внимание. Основными опасными факторами называются потенциальная угроза применения ядерного оружия Северной Кореей, и территориальные споры с Китаем.
Россия
 Без сомнения, Российская Федерация является ведущим военным игроком не только по региональным, но и по мировым меркам. В 2010-ом году вице-премьер Сергей Иванов заявил, что до 2020-го года «общая сумма расходов государства на госпрограмму вооружений составит около 22-22,5 триллиона рублей». По данным прошлого года, по расходам на оборону Россию опережают лишь США и Китай.
Без сомнения, Российская Федерация является ведущим военным игроком не только по региональным, но и по мировым меркам. В 2010-ом году вице-премьер Сергей Иванов заявил, что до 2020-го года «общая сумма расходов государства на госпрограмму вооружений составит около 22-22,5 триллиона рублей». По данным прошлого года, по расходам на оборону Россию опережают лишь США и Китай.
Первым универсальным комплектом вооружения стал набор «Бармица» на базе боевого защитного комплекта «Пермячка», и уже на её базе был разработан современный костюм «Ратник». Испытания нового комплекта начались в 2012-ом году. В него вошёл бронежилет, способный выдержать выстрел СВД (речь идёт о варианте с пластинами) и поддерживающий на воде. Голову защищает лёгкий шлем, способный выдержать выстрел из пистолета Макарова с 10 метров, и противоосколочные очки. Новые материалы позволят заменить привычную тяжёлую зимнюю одежду из меха. Проходит испытания специальная версия «Ратник-Арктика» с электрообогревом, что может помочь при выполнении операций в Арктике и на крайнем Севере. Кроме того, арамидный комбинезон из волокна «Алютекс» устойчив к воздействию огня. Как и в зарубежных системах, солдат будет снабжён нашлемным дисплеем, интегрированным с тепловизионным прицелом. Испытания автоматического оружия для экипировки «Ратник» прошли автоматы двух производителей: концерна «Калашников» (АК-12) и ковровского завода имени Дегтярёва (перспективный автомат А-545 на основе АЕК-971), сообщил заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации Олег Бочкарев. Бочкарев добавил, что также в полный комплект экипировки «Ратник» войдут модернизированные пулемёты и снайперский комплекс ОРСИС.
Однако наибольший интерес представляет комплекс разведки управления и связи «Стрелец». Он позволит солдатам обмениваться сообщениями и фотографиями, вести переговоры, и отсылать данные о расстоянии до цели. Командирам будет доступна информация о местоположении своих подчинённых, и они смогут рассылать им приказы. У бойцов же будет версия попроще, с GPS/ГЛОНАСС, позволяющая выполнять прикладные расчёты (целеуказание, ориентирование).
В базовой комплектации (без оружия и пластин в бронежилете) вес комплекта составит около 15 килограммов. С пластинами – все 20. Сейчас «Ратник» проходит последние испытания, и, как ожидается, с осения этого года поступит в российскую армию в количестве более 50 тысяч экземпляров – в том числе и срочникам.
Уже сейчас становится известна кое-какая информация о третьем поколении костюма. Так, в течение двух лет должна быть разработана система мониторинга жизнедеятельности военнослужащих, способная определять их состояние после травмы или ранения, что может значительно помочь в проведении медицинской эвакуации. Для того, чтобы избежать нанесения удара по своим силам, «Ратник» будет оснащён датчиками «свой-чужой».
Таким образом, хотя «Ратник» и не является комплектом, «превосходящим мировые аналоги», он ничем не хуже их и, что важно, скоро будет эксплуатироваться в штатном порядке (что пока удалось лишь французам).
Хотя ещё рано говорить про успех российского костюма, но, судя по отзывам ветеранов, «Ратник» и в самом деле удался. Бюджет РФ – действительно один из самых крупных в мире, но наши соседи недалеко ушли от нас. Сейчас на какое-то время мы обладаем преимуществом в военных разработках. Однако на примере США ясно, что наиболее мощные решения могут получиться лишь при привлечении гражданских специалистов. Без серьёзной академической реформы «Ратник» отстанет от своих соперников: очередь из АК-12 может оказаться бесполезной против жидкой брони. Кроме того, в текущей обстановке инвестировать в науку надо по-настоящему. Сейчас тепловизионные пластины прицела, входящего в набор «Ратника», производятся во Франции. В следующем году производство начнётся в России. Однако при дальнейшем развитии событий отставание в военных технологиях может стать просто катастрофическим.
США
 У Соединённых Штатов Америки свой, особый путь разработки вооружения. Чтобы был понятен масштаб американской военной машины, приведём следующий пример: оборонный бюджет США более чем в два раза превышает расходы всех вышеперечисленных государств. Американцы могут позволить себе не разрабатывать единственный прототип, а затем постепенно улучшать его. Существует несколько десятков, если не сотен проектов: какие-то разрабатываются различными ведомствами, какие-то – частными компаниями, ну а многие исследования ведутся в лабораториях.
У Соединённых Штатов Америки свой, особый путь разработки вооружения. Чтобы был понятен масштаб американской военной машины, приведём следующий пример: оборонный бюджет США более чем в два раза превышает расходы всех вышеперечисленных государств. Американцы могут позволить себе не разрабатывать единственный прототип, а затем постепенно улучшать его. Существует несколько десятков, если не сотен проектов: какие-то разрабатываются различными ведомствами, какие-то – частными компаниями, ну а многие исследования ведутся в лабораториях.
Идея о «солдате как системе» впервые стала воплощаться в реальность в Исследовательском центре солдатского снаряжения СВ США, расположенном в Натике. Точкой отсчёта можно назвать костюм «Soldier Integrated Protective Ensemble». Именно тогда была заложена концепция об объединении систем жизнеобеспечения, связи, бронезащиты, разгрузки, прицелов ночного видения и многого другого. Как мы видим, идея действительно оказалась удачной.
Полученный опыт был использован в программе «LandWarrior». Технологии шагнули вперёд, вес снаряжения снизился, и у солдат появился переносной компьютер на базе Windows 2000, GPS-навигатор с встроенным шагомером. Нашлемный дисплей отображал расположение союзников – оно обновлялось каждые 30 секунд. Топографическую информацию со спутника можно было получить всего лишь за 10 минут, по сравнению с 6-8 часами задержки в обычной ситуации. Однако, несмотря на то, что испытания проходили и в Ираке, в 2007-ом году финансирование программы значительно урезали: причиной тому был избыточный вес снаряжения. Всего к этому моменту с 1990-го года на разработку было потрачено более миллиарда долларов.
Впрочем уже в следующем году стартовал новый проект, «Nett Warrior», основанный на тех же принципах, что и «LandWarrior», но использующий коммерчески доступные компоненты. Правда теперь под названием «Nett Warrior» (названного в честь Роберта Нетта, героя, получившего Медаль Почёта во время ВМВ) скрывается лишь небольшой набор электроники, призванной повысить ситуационную осведомлённость.
Однако то, что из «умной» экипировки пропало оружие, не означает, что у США ничего нет. Как уже было указано выше, внушительные ассигнования позволяют отдельным ведомствам самостоятельно заниматься разработкой нужных им технологий. Например, к таким можно отнести программу «Sniper System Capability Set», в которую входит оптимизация оптических прицелов и оружия для точной стрельбы. И таких программ очень много. Наиболее интересные разработки, как всегда, – у DARPA.
 Однако шагнём к по-настоящему футуристичным костюмам – к экзоскелетам. Система HULC от «Lockheed Martin» даёт солдатам возможность переносить грузы весом до 90 килограммов. Вес самой системы – около 24 килограммов. В зависимости от ситуации можно добавить брони, поставить дополнительные сенсоры или прикрепить себе на плечо большой пулемёт. Важно, что HULC не привязан к стационарному источнику питания, как, например XOS2 от «Sarcos», дочерней компании «Raytheon». Батарей ему хватает на 3-5 часов.
Однако шагнём к по-настоящему футуристичным костюмам – к экзоскелетам. Система HULC от «Lockheed Martin» даёт солдатам возможность переносить грузы весом до 90 килограммов. Вес самой системы – около 24 килограммов. В зависимости от ситуации можно добавить брони, поставить дополнительные сенсоры или прикрепить себе на плечо большой пулемёт. Важно, что HULC не привязан к стационарному источнику питания, как, например XOS2 от «Sarcos», дочерней компании «Raytheon». Батарей ему хватает на 3-5 часов.
Война всегда меняется
Мы практически подошли к пределу технологической сингулярности – моменту, когда технологии сделают такой скачок, что будут недоступны человеческому восприятию. Футурологи и учёные дают различные оценки: кто-то ставит на 2030-ый год, кто-то – на 2050-ый. Одно ясно: времени осталось совсем немного и мы застанем этот странный и страшный момент при своей жизни. Интересно, что постепенно военные стали всё чаще и чаще обращаться к гражданским специалистам. Армия становится скорее катализатором разработки, нежели её единственным исполнителем. Умные костюмы – это элемент переходного периода, когда сражаются ещё люди. От «Ратника» – к автоматическим ударным дронам, киборгам и умной пыли (smartdust), разъедающей танки врага. Впрочем, не стоит думать, что всё пройдёт так гладко. Как видно, ни один из костюмов не защищён от применения электромагнитного импульса, и уж тем более беззащитна потребительская электроника. Неизбежно начало гонки в разработке средств по выведению «умной» техники из строя. И может статься, что войну снова придётся вести по старинке.
 Что касается золоотвалов, то ситуация с ними также не безнадежна. Как мы уже писали ранее, золы и шлаки – неплохое сырье для строительства. В первую очередь – для строительной индустрии. И при хорошей постановке дела такое сырье будет идти на расхват. Напомню, что золы и шлаки могут использоваться в дорожном строительстве, при производстве товарного бетона и бетонных изделий, при производстве ячеистых бетонов (газобетон и пенобетон). Причем, использование зол в этом случае дает возможность сэкономить на цементе и снизить потребность в воде. Из золы также делают зольный (или «зеленый») кирпич. Золы идут в качестве минеральных добавок в сухие строительные смеси, используются как активные минеральные добавки для добавочных цементов. Кроме того, специалисты Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали технологию производства так называемого низкотемпературного керамзита – материала, особо подходящего для сибирских условий. Зола для его производства подойдет в самый раз.
Что касается золоотвалов, то ситуация с ними также не безнадежна. Как мы уже писали ранее, золы и шлаки – неплохое сырье для строительства. В первую очередь – для строительной индустрии. И при хорошей постановке дела такое сырье будет идти на расхват. Напомню, что золы и шлаки могут использоваться в дорожном строительстве, при производстве товарного бетона и бетонных изделий, при производстве ячеистых бетонов (газобетон и пенобетон). Причем, использование зол в этом случае дает возможность сэкономить на цементе и снизить потребность в воде. Из золы также делают зольный (или «зеленый») кирпич. Золы идут в качестве минеральных добавок в сухие строительные смеси, используются как активные минеральные добавки для добавочных цементов. Кроме того, специалисты Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали технологию производства так называемого низкотемпературного керамзита – материала, особо подходящего для сибирских условий. Зола для его производства подойдет в самый раз.