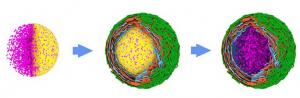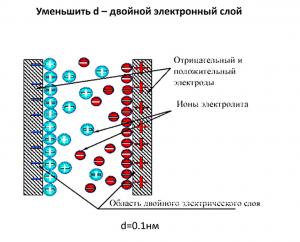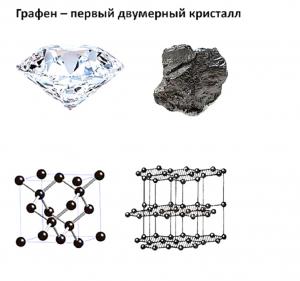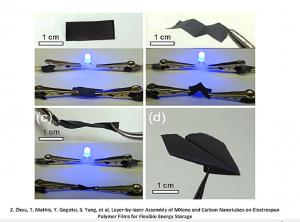«Гормон счастья» и доместикация
Эксперименты, связанные с доместикацией животных, проводятся в Институте цитологии и генетики СО РАН не менее сорока лет. Мировую известность Институту, как мы знаем, принесла работа академика Дмитрия Беляева по одомашниванию серебристо-черных лисиц. Однако объектом исследований стали здесь не только лисицы, но также крысы-пасюки и американские норки. Благодаря этой многолетней и во многом уникальной работе была убедительно подтверждена выдвинутая Дмитрием Беляевым идея о том, что основой доместикации, предпринятой древним человеком, стал бессознательный отбор неагрессивных животных.
Выступая на прошедшей Международной Конференции, посвященной столетнему юбилею Дмитрия Беляева, главный научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Нина Попова поделилась с коллегами важными результатами, полученными в ходе экспериментов. Речь шла, прежде всего, о скрытых механизмах доместикации, влияющих на перестройку поведения животных. Говоря по-простому, исследования показали, что у одомашненного животного мозги работают немножечко не так, как это происходит у его дикого агрессивного сородича. Соответственно, эти различия мы можем наблюдать не только внешне, но и на молекулярном уровне.
Нина Попова подчеркнула, что отсутствие агрессивности по отношению к человеку является самым основным, самым характерным, «обязательным» признаком доместикации. Это именно то, ЧТО отличает домашних животных от диких.
«Данная идея, – заметила она, – была изложена Дмитрием Константиновичем Беляевым. Им была создана и соответствующая гипотеза, что в незапамятные времена человек бессознательно вел отбор по этому признаку». Практика убедительно подтвердила эту догадку.
Нина Попова напомнила, что отбор на низкую агрессивность привел к появлению совершенно неагрессивных особей не только у лисиц, но и у крыс-пасюков – со всеми признаками доместикации. По ее словам, эти крысы-пасюки мало того, что стали неагрессивны, они проявляют явно дружелюбное поведение по отношению к человеку. Еще одним любопытным признаком доместикации, по замечанию ученого, стало появление на груди животного белых пятен. Их появление считается коррелятивным признаком при доместикации практически всех животных. Соответственно, этот признак появился и у крыс-пасюков, хотя в природе такой расцветки никто не встречал.
Главный вопрос, на который попытались ответить наши ученые: что происходит с этими животными, почему они так резко отличаются от своих диких сородичей? «Нужно понимать, – заметила Нина Попова, – что генов, которые непосредственно регулируют поведение, не существует. Бесполезно искать ген того или иного поведения. Искать нужно ген, регулирующий регуляторы поведения. А регулятором поведения выступает мозг. Любое изменение поведения связано с изменением функциональной активности и работы тех или иных нейротрансмиттеров мозга».
Проведенные в лаборатории исследования как раз и показали, что доместикация животных связана с изменением нейромедиаторов мозга. Причем, это было показано впервые. Согласно полученным данным, в перестройке поведения при селекции животных на низкую агрессивность участвует серотониновая система мозга. Иными словами, агрессивные и неагрессивные животные различаются по уровню серотонина в мозге, по активности основных ферментов метаболизма серотонина и по экспрессии серотониновых рецепторов. Почему именно серотонин привлек такое внимание ученых? Нина Попова разъясняет так: «Серотонин привлекает внимание по многим причинам, но в данном случае мы выделяем две главные причины. Первое, серотонин – это самый древний из известных нам медиаторов, который начинает работать – в том числе и в онтогенезе – до появления нервной системы. Вначале он работает как нейрогормон, а потом – как нейротрансмиттер. И он играет очень большую роль во время пренатального развития, влияя, в том числе, и на нейрогенез. И второй момент. Когда мы – более сорока лет назад – начинали свои исследования, были буквально единичные работы, где отмечалось, что серотонин понижает агрессивность. И в течение последних лет появилось огромное количество данных, которые подтверждают такую регуляцию агрессивного поведения практически у всех животных. В том числе это относится и к человеку».
Повышенное содержание серотонина было обнаружено как у доместицированных лисиц, так и у доместицированных крыс-пасюков. Правда, по словам Нины Поповой, изменения были обнаружены не сразу – примерно к одиннадцатому поколению.
Точнее, изменения накапливались от поколения к поколению, пока картина не предстала со всей отчетливостью. Принципиально важно здесь именно то, что одинаковый характер изменений был выявлен у животных разных видов. Причем, важна сама «механика» указанных изменений. То есть речь идет не о случайности, а о четко согласованном, упорядоченном процессе, происходящем на молекулярном уровне. По мнению Нины Поповой, это достаточно редкий случай, когда получают сходную направленность результатов. И если учесть совпадение данных для лисиц и для крыс-пасюков, то можно с уверенностью сказать, что серотонин, действительно, участвует в процессе доместикации. «Аналогия здесь получена полная», – уточняет Нина Попова. Поэтому, считает ученый, нет никакого сомнения в том, что серотонин ингибирует агрессивность, участвует в регуляции агрессивного поведения.
Необходимо отметить, что серотонин – необычайно полифункционален. Считается, что он регулирует значительно большее число разных видов поведения, чем какой-либо другой нейромедиатор. И в данном исследовании на себя обращают внимание регуляции тех признаков, которые совершенно отчетливо меняются при селекции. В частности, было выявлено, что реакция на стресс у агрессивных животных гораздо выше, чем у неагрессивных. То есть изменение метаболизма серотонина ведет не только к изменению агрессивности, но и к изменению других признаков и систем. И как раз наличие серотонина как главного, общего регулятора объясняет появление сходных коррелятивных признаков у разных видов животных, отбираемых на низкую агрессивность.
Обнаружение такого регулятора является значительным шагом наших ученых на пути к разгадке тайны доместикации. И принципиально здесь то, что немалая часть важных научных результатов была впервые получена именно в нашей стране, конкретно – в ИЦиГ СО РАН.
Наталья Тимакова
- Подробнее о «Гормон счастья» и доместикация
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии