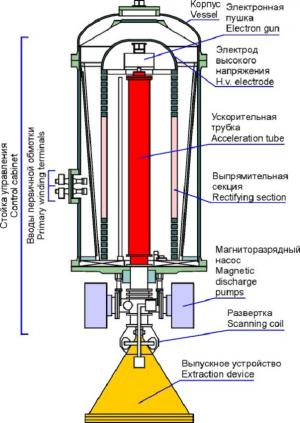Что не поделили издатели русских и английских версий журналов РАН, во сколько обходятся бюджету академические журналы и почему 500 редакторов издательства «Наука» могут остаться без работы, в интервью Indicator.Ru рассказал врио директора ФГУП «Издательство "Наука"» Сергей Палаткин.
— Расскажите, чем занимается издательство «Наука»? Сколько у вас сотрудников? Как строится издательский процесс?
— ФГУП «Издательство "Наука"» — государственная организация, полномочия по управлению и распоряжению имуществом принадлежат Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) и Росимуществу.
Мы издаем книги и журналы, содержащие исследования российских ученых, распространяем их в России и по всему миру с целью популяризации и продвижения достижений российской науки. По контракту с РАН мы выпускаем научные академические журналы на русском языке.
В штате издательства работает более 1000 человек, в том числе порядка 450 человек штатных сотрудников журнальных редакций. Они занимаются редакционно-издательской подготовкой научных журналов РАН.
Издательский процесс строится следующим образом. Заведующий редакцией принимает и регистрирует рукописи. Статьи поступают, как правило, по электронной почте, многие авторы приносят их в редакцию лично.
Затем рукопись рассматривают члены редколлегии и рецензенты. Стоит отметить, что это очень важный этап, многие современные журналы (сразу оговоримся, это не так называемые мусорные журналы) от него отказываются из-за организационной сложности процесса и ограничиваются заключением редколлегии. В то же время в мире котируется система «двойного слепого рецензирования». Это непременное условие рассмотрения заявки для вхождение в базы данных WoS, Scopus и другие.
Заведующая редакцией представляет рукопись на заседании редколлегии для первичного рассмотрения статьи (определение рецензента, отклонение по причине несоответствия тематике журнала), передает статью рецензенту, в случае отказа рецензента подбирает другого специалиста, контролирует своевременность получения рецензии, отправляет статью на доработку автору, согласовывает доработанную версию с рецензентом. Ситуацию осложняет и то, что рецензенты зачастую не мотивированы. У нас рецензирование статей — своего рода альтруизм, многие отказываются от него из-за нехватки времени. В ряде случаев привлечение высококвалифицированных специалистов в качестве рецензентов — личная заслуга заведующих редакциями.
Грамотно организовать процесс рецензирования крайне важно, так как авторы иногда отказываются публиковать статьи из-за затянутости процесса.
После принятия к печати статья должна быть отредактирована и приведена в соответствие с правилами журнала. Изменения согласуются с автором, нередко научные редакторы переводят аннотации и ключевые слова к статьям на английский язык. Наличие метаданных на английском языке крайне важно для многих переводных журналов, например для журналов биологического профиля, так как база данных PubMed при индексации учитывает только оригинальную версию.
По договору авторского заказа привлекаются внештатные редакторы и переводчики, часто необходимы специалисты, разбирающиеся в какой-то узкой тематике. Подготовленная статья поступает на верстку, сверстанный материал вычитывают корректоры, а на редакторов ложится проверка корректуры и оригинал-макета журнала. Далее оригинал-макет просматривают выпускающие редакторы, затем заполняются выходные данные, определяется тираж, после чего макет записывается и отправляется в типографию.
Особое внимание мы уделяем индексации журналов в базах данных. Речь идет, например, о РИНЦ, Web of Science, Scopus, PubMed. Для включения журналов в базы данных часто не достаточно хорошего материала, необходимо соблюдать ряд технических требований для корректной индексации статей. Редакторы проверяют достоверность фактического материала, собирают все необходимые данные об авторе, финансирующей организации. Заведующие редакциями поддерживают на должном уровне объем журнала, отвечают за соблюдение его периодичности, обеспечивают доступ к полнотекстовым версиям статей для индексации.
Издательство активно участвует в продвижении и повышении видимости журналов (сайт, редакционно-издательская система, работа по введению журналов в базы данных), выходит к учредителям с предложениями по модернизации концепции журналов, их внешнего облика. Активная работа сейчас ведется в отношении научно-популярных журналов РАН, таких как «Природа», «Земля и Вселенная», «Энергия». Мы пытаемся найти спонсора, выявить целевую аудиторию и соответствующую ей тематическую составляющую, улучшить внешний вид журналов, изменить схему распространения.
— Мы недавно опубликовали материал о недопонимании между издательством «Наука», Pleiades Publishing и Springer Nature относительно интеллектуальных прав и распространения англоязычных версий журналов РАН. Могли бы вы прояснить позицию «Науки»?
— Опубликованная на вашем портале статья стала полной неожиданностью для нас. Обращаясь в издательство Springer Nature, мы вовсе не преследовали цель «сорвать» публикации англоязычных версий научных журналов РАН. Мы лишь говорили о нарушении прав издательства и необходимости начать переговорный процесс по надлежащему оформлению отношений с издателем англоязычных версий на использование этих прав в соответствии с законодательством.
Этот вопрос назрел давно и требует разрешения. Издательство «Наука» обладает исключительными правами на статьи, опубликованные в русских версиях научных журналов на основании соответствующих договоров, заключаемых с авторами статей. Издательство заключает эти договоры в соответствии с условиями государственных контрактов с РАН на издание и распространение научных журналов. Договор предусматривает передачу исключительных прав на статьи издательству «Наука». В ряде случаев оформляются договоры авторского заказа на переработку научных статей (при необходимости): редактирование, рецензирование, оформление. В результате к предприятию переходят права на публикацию и распространение переработанных статей, а также на полностью подготовленные к публикации номера журналов на русском языке, так называемое составное произведение, права на которое являются самостоятельным объектом интеллектуальных прав, охраняемых законом.
Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. При этом у российского издателя и издателя англоязычных версий, Pleiades Publishing, отсутствовали и отсутствуют договорные отношения по передаче материалов. А ведь предполагается, что российские научные труды публикуются сначала в России, а потом в переводе в англоязычных странах. Более 20 лет этот вопрос никого не интересовал. В течение многих лет существовала практика «стихийной» передачи материалов между сотрудниками издательства и различными лицами, действующими по поручению иностранных издателей. Этот процесс практически не контролировался.
На заседании рабочей группы РАН – ФАНО России по вопросам издательской деятельности в октябре 2016 года было принято решение о разработке регламента по порядку и срокам обмена рабочими материалами между издательством «Наука» и компанией Pleiades Publishing.
В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ издательство «Наука» приняло решение о централизованной передаче материалов через Управление по выпуску журналов (подразделение издательства). Сотрудники всех редакций издательства обязаны передавать принятые к опубликованию материалы на бумажных и электронных носителях в Управление по выпуску журналов.
Особо подчеркну, что ООО МАИК «Наука/Интерпериодика» не является издателем англоязычных версий научных журналов, выполняет только отдельные подрядные работы по подготовке оригинал-макетов переводной версии научных журналов для кипрской компании GERTAL HOLDING LIMITED, действующей в интересах Pleiades Publishing.
Возвращаясь к типовому договору с авторами научных статей, утвержденному РАН, отмечу, что у издательства «Наука» нет права переводить статью на английский язык и распространять английскую версию. В связи с этим автор может одновременно заключать договоры на использование переведенной статьи с другими лицами, в частности с компанией Pleiades Publishing. Однако фактически иностранный издатель использует для переводов не оригинал статьи, а материал, подготовленный и переработанный российским издателем. При этом, как я уже говорил, никаких договоров и регламентов между нашими организациями нет. Мы считаем, что эта ситуация неправомерна, ущемляет права издательства «Наука» и требует вмешательства со стороны учредителей журналов. Об этом мы и писали в Springer Nature.
Очень жаль, что наше письмо было в вашей публикации прокомментировано иначе. И, опять ссылаясь на формулировки вашей предыдущей публикации, позволю себе заметить, что даже продавцы карандашей имеют право отстаивать свои законные права.
Вся творческая, организационная и редакторская работа по обработке статей российских ученых возложена полностью на издательство «Наука». Говорить, что издательство «Наука» всего лишь выполняет техническую работу, по меньшей мере некорректно по отношению к фактам и почти 500 штатным сотрудникам журнальных редакций издательства, которые самостоятельно формируют контент журналов и доводят их до высокого издательского уровня.
— В своем письме в Springer Nature вы писали, что примете меры в отношении издательства, если ваши права продолжат нарушать. Было ли что-то сделано и разрешен ли конфликт?
— Я не считаю, что это стоит называть конфликтом в прямом смысле этого слова, однако текущую ситуацию следует немедленно исправлять, чтобы соблюсти законность и баланс интересов всех участников издательского процесса. У нас нет задачи «ставить палки в колеса» иностранным издателям. Мы хотим, чтобы труд сотрудников издательства «Наука» был адекватно отмечен и использовался иностранными издателями в рамках договорных прозрачных отношений. Очень надеемся, что РАН, как учредитель научных журналов, примет в этом участие. В конце концов, Академия наук и сама должна быть заинтересована в выстраивании единой, логичной, прозрачной системы распространения научных трудов российских ученых, в том числе и потому, что на это выделяются бюджетные средства.
— Сколько журналов, которые издает «Наука», убыточны, а сколько приносят прибыль?
— Из 155 журналов, которые издает «Наука», больше половины убыточны. Вся информация о финансовых показателях деятельности в виде отчетного материала — финансовых паспортов журналов — ежегодно, начиная с 2015 года, предоставляется в РАН, ФАНО, доводится до сведения главных редакторов и членов редакций.
— Сколько средств ежегодно «Наука» получает от РАН на издание академических журналов?
— В 2016 году «Наука» получила от РАН на издание журналов 130 миллионов рублей (без НДС эта сумма составила 103 миллиона рублей), на распространении печатных и электронных версий заработала еще 129 и 11,7 миллионов рублей соответственно. Всего около 244 миллионов. При этом потратила на оплату труда сотрудников, подготовку оригинал-макетов, полиграфическое исполнение, содержание рабочих мест 280,5 миллионов рублей. Убыток издательства от этой деятельности составил 36,4 миллиона. В 2017 году размеры финансирования со стороны РАН за первое полугодие составили 62 миллиона и столько же во втором полугодии (еще не выплачены, так как по условиям контракта оплата производится после сдачи работ поквартально). При этом в 2016 году нам удалось нарастить объемы распространения журналов среди подписчиков более чем на 40% по сравнению с 2015 годом.
— Как проводится тендер по передаче этих средств? Каков предмет тендера?
— Начиная с 2017 года РАН выбирает издателя русских версий на открытом аукционе в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предметом контракта является редакционно-издательская подготовка, полиграфическое исполнение, распространение научных журналов на русском языке. Кроме того, контрактом предусмотрены работы по подготовке электронных версий журналов в определенном формате и распространение электронных версий через библиотеку elibrary.ru.
Здесь необходимо обратить внимание, что в ноябре 2016 года со стороны Черемушкинской прокуратуры города Москвы были вопросы к нам и ФАНО по поводу договоров, заключенных с elibrary.ru. Мы объяснили, что, поскольку это условие государственного контракта, мы не вправе не заключить договоры с правообладателями данного ресурса. База данных «Электронно-библиотечная система elibrary.ru» принадлежит ООО «РУНЭБ».
Любопытно, что конечным бенефициаром данной компании является Александр Шусторович — учредитель компании Pleiades Publishing. Получается, что не только доходы от английских версий, но и часть доходов от распространения русских версий в итоге остается у издателя английских версий.
— Допускаете ли вы, что новый тендер на издание академических журналов в 2018 году может выиграть другое издательство?
— В двух открытых тендерах, проведенных РАН в 2017 году (на первое полугодие и на второе полугодие), «Наука» была единственным лицом, подавшим заявку на участие в аукционе. Нам известно, что вопрос своего участия в данных аукционах прорабатывало ООО МАИК «Наука/Интерпериодика». Но данная организация заявку не подавала, видимо, исходила из того, что весь пакет русских журналов издавать невыгодно. Ведь для этого пришлось бы забрать в штат все редакции как прибыльных, так и убыточных журналов. А это большие расходы. Ведь неприбыльные журналы тоже кто-то должен издавать. Что будет в 2018 году, нам неизвестно.
Если издательство «Наука» не станет издателем журналов РАН в 2018 году, оно будет вынуждено уволить порядка 500 человек членов редакций и иных сотрудников, обеспечивающих выпуск.
— Почему право на издание англоязычных версий журналов принадлежит не вам, а Pleiades Publishing?
— У меня нет ответа на этот вопрос. Эта система сложилась в 90-е годы и с тех пор не изменилась. Мы мало знаем о деятельности Pleiades Publishing, так как эта информация от нас скрыта. Какова система распространения научных российских журналов на английском языке, какие извлекаются доходы, в чье распоряжение они поступают, на что используются, какие на самом деле лица задействованы в этом деле, мы не знаем.
Вместе с тем, для нас не совсем понятно, почему, являясь эксклюзивным издателем и распространителем английских версий научных статей на протяжении многих лет по договорам с РАН и научными институтами (соучредителями журналов), Pleiades Publishing не имеет до сих пор представительства в России? Почему фактически распространением занимается Springer по договору с Pleiades Publishing? Почему РАН и институты не заключают прямой договор со Springer? Почему оригинал-макеты для английских версий делает МАИК по договору с какой-то кипрской компанией GERTAL, а не по договору с Pleiades Publishing? И, наконец, почему государственное российское издательство выбирается на открытом аукционе, а иностранные издатели не выбираются на аукционе? Возможно, на все эти вопросы существуют логичные объяснения. Но нам о них неизвестно. Считаем, что в любом случае система распространения всех научных журналов РАН как на русском, так и на английском языках должна быть прозрачна и понятна.
В свою очередь, мы открыты для любых диалогов. И мы имеем необходимые ресурсы для издания журналов также на английском языке. Если РАН объявит соответствующий конкурс, мы готовы в нем участвовать.
— В Совете Федерации заявили, что «Наука» является «прикрытием» для МАИК и Pleiades, и призвали проверить деятельность издательств. Как вы можете это прокомментировать?
— Издательство «Наука» вошло в состав учредителей МАИК так же, как Pleiades Publishing и РАН. Как только меня назначили на должность в конце 2015 года, я начал разбираться во всех этих сложившихся с 90-х годов взаимоотношениях. В результате установлено, что МАИК использует помещения федеральной собственности в здании издательства по адресу город Москва, улица Профсоюзная, дом 90, которые предоставлены ему бессрочно и безвозмездно на основании учредительных договоров от 1992 и от 1998 годов.
Кроме того, как я уже сказал, за счет штатных сотрудников издательства «Наука» МАИК и Pleiades Publishing осуществляли подготовку англоязычных версий, не тратя средства на редакторов, так как у сотрудников наших редакций было указание передавать материалы в МАИК. В том числе сотрудники издательства «Наука» оформляли от имени Pleiades Publishing лицензионные договоры с авторами и сдавали готовые комплекты отредактированных статей с авторскими договорами в МАИК. При этом МАИК по договору с издательством «Наука» выполняло работы по созданию оригинал-макетов русских версий и получало за это оплату. Так, американский издатель экономил на аренде офиса, на оплате редактуры, рецензирования, оформления. При этом, МАИК никогда не платил дивиденды издательству «Наука» как участнику Общества.
Согласно отчету об оценке, определенной на 23 октября 2015 года, рыночная ставка арендной платы в здании по указанному адресу составила 12 100 рублей за один квадратный метр в год без учета НДС и коммунальных расходов.
Благодаря созданным искусственно и незаконно экономическим преимуществам для ООО МАИК «Наука/Интерпериодика», издательство «Наука» только за последние три года недополучило доходов в виде арендной платы в размере более 114 миллионов рублей.
Обо всех этих обстоятельствах я неоднократно докладывал в ФАНО России, сообщал главным редакторам журналов и в РАН. В прошлом году мы подняли вопрос о прекращении прямой передачи отработанных материалов от наших сотрудников в МАИК, так как отсутствуют договорные отношения с Pleiades Publishing. Об этом мы писали главным редакторам и в РАН. Со стороны МАИК и РАН это вызвало резко негативную реакцию, МАИК начал заявлять о том, что издательство срывает выпуск английских версий. Хотя, если у двух издательств отсутствуют договорные отношения, на каком основании мы должны передавать наш материал? Никто не запрещает Pleiades Publishing заключать договоры с авторами на статьи и самостоятельно осуществлять их доработку. Однако же иностранному издателю предпочтительнее работать нашими силами, и он превратил наши законные требования в политическую интригу, в связи с чем мы вынуждены были долго доказывать свою правоту в различных инстанциях.
Большую часть оригинал-макетов, ранее изготавливаемых МАИК, из-за невыгодности расценок мы в настоящее время изготавливаем своими силами. Также с 2017 года мы отказались от услуг ООО «Плеадес» — российской дочерней компании американской Pleiades Publishing, которая на невыгодных для издательства «Наука» условиях размещала на elibrary русские статьи.
— Расскажите подробнее про конфликт «Науки» и МАИК.
— МАИК использует помещения площадью более 3 000 квадратных метров, так как право пользования внесено в уставный капитал данного общества решением Президиума РАН. Такое использование противоречит действующему законодательству и наносит ущерб собственнику и законному правообладателю недвижимого имущества.
Мы дважды предпринимали попытки исключить федеральное имущество из уставного капитала Общества, которые оказались безуспешны в связи с отрицательным мнением иностранного участника Общества, американской компании Pleiades Publishing, и нейтральной позицией РАН.
В феврале 2016 года комиссия ФАНО также обратила внимание на неправомерное использование федерального недвижимого имущества.
ФАНО направило обращение руководителю Территориального управления Росимущества в городе Москве о принятии мер по защите имущественных интересов Российской Федерации. Управление обратилось в прокуратуру.
В настоящее время в Арбитражном суде города Москвы рассматривается дело по иску Прокуратуры города Москвы в интересах Российской Федерации о выселении ООО МАИК из незаконно занимаемых помещений. Мы поддерживаем требования прокуратуры.
Разумеется, эти обстоятельства также повлияли на взаимоотношения издательства «Наука» и МАИК самым негативным образом. Поскольку в суде заявлено требование о выселении из помещений пятого, шестого этажей здания, так как фактически они используются МАИК, МАИК на общем собрании участников общества заявило о своем желании взыскать порядка 175 миллионов рублей компенсации за помещения четвертого этажа в этом же здании. В 1995 году они также были предоставлены безвозмездно МАИК, однако фактически обществом не использовались. Дело в том, что согласно учредительным документам данной организации право безвозмездного пользования федеральным имуществом передается бессрочно. А в случае выхода участника сохраняется на 25 лет после выхода. Если передача МАИК помещений в здании будет признана судом законной, то, во-первых, Российская Федерация в результате сможет утратить пятый и шестой этажи, а издательство «Наука» в результате взыскания 175 миллионов станет банкротом. Конечно, для нас недопустимо подобное развитие событий. Надеюсь, не случится. Ведь мы столько сил и времени потратили на то, чтобы издательство «Наука» уверенно двигалось к развитию и процветанию!