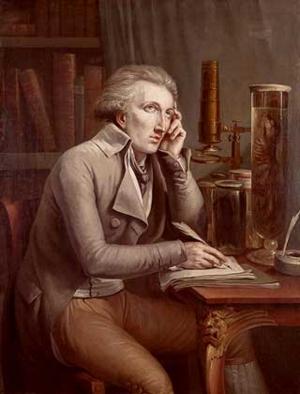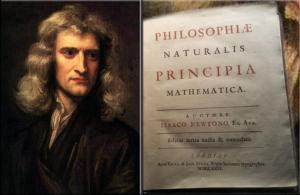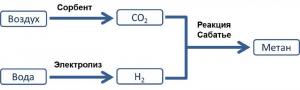Корреспондент Егор Быковский побеседовал с академиком Сергеевым после того, как он получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах в Академии наук и стал новым президентом РАН.
— Александр Михайлович, когда мы разговаривали вечером сразу после вашего избрания, вы рассказывали замечательную историю про вашу жену.
— Да, она узнала про то, что я собираюсь выставить свою кандидатуру на пост президента академии, куда позже многих моих друзей и коллег. В один прекрасный вечер я ей сказал: «Нам надо с тобой поговорить. Понимаешь, ведь это неправильно, что многие уже знают, а ты еще нет». Она, конечно, очень напряглась сначала. Ну, а кто бы не насторожился при таком начале разговора?
— Еще бы. Я бы даже не рискнул так начинать разговор со своей женой! Но как и почему вы решились? Я имею в виду — выставить свою кандидатуру? Вы ведь только первый год как академик.
— В том-то и дело, что первый год. Меня в 2003 году приняли в члены-корреспонденты. А именно в академики меня выбрали осенью 2016 года. Некоторые даже решили, что это свидетельствует о карьеризме: мол, только что стал академиком и сразу же выдвинулся в президенты и т.д. Для меня это сыграло, как ни странно, даже положительным образом. Почему? Потому что очевидно же — ждали нового человека. Не обремененного какими-то наработанными связями. Когда в моем родном отделении физических наук, откуда последовало это предложение, взвешивали, какая кандидатура пойдет, то было принято решение, чтобы человек был исходно «свежий». С одной стороны, ты выскочка и провинциал. А с другой стороны, на это можно посмотреть (особенно в нынешней ситуации) совсем под другим углом зрения. Мне кажется, эти два момента были правильно учтены.
 — Уточню, что среди крупных ученых провинциалов не бывает. Скажите, принимал ли какое-нибудь участие в том, чтобы вас подтолкнуть к выдвижению, «Клуб 1 июля», в котором вы состоите?
— Уточню, что среди крупных ученых провинциалов не бывает. Скажите, принимал ли какое-нибудь участие в том, чтобы вас подтолкнуть к выдвижению, «Клуб 1 июля», в котором вы состоите?
— Давайте мы прямо объяснимся по этому поводу. Я — член «Клуба 1 июля». Бывших членов этого клуба, как и бывших членов Академии наук, не бывает. Как повесили на сайт в 2013 году тех, кто отказался признавать «ликвидацию РАН», так они вечно и будут там висеть. Я считаю, что в 2013 году «Клуб 1 июля», конечно, наряду с другими защитниками академии сыграл очень большую роль в том, чтобы эта «черная метка» под названием «ликвидация РАН» не появилась в российской истории. Ведь если бы это случилось, я думаю, нам бы следующие поколения не простили. А еще хочу пояснить, почему я, в числе прочих, принял решение войти в «Клуб 1 июля». Я увидел знаменосцев. Под чьи знамена ты встаешь? Ты же смотришь, кто эти люди. А там были имена очень уважаемых мною людей. Прежде всего, конечно же, физиков. Есть люди, которых уважаешь как выдающихся ученых нашего времени. А там были Валерий Анатольевич Рубаков, Владимир Евгеньевич Захаров, Алексей Александрович Старобинский — вы понимаете, как физики и как общественные фигуры они настоящие знаменосцы.
Итак, давайте определимся: Рубаков, Захаров, Старобинский — они были в этом списке наверху. К ним любому физику присоединиться не зазорно. Но что произошло дальше? Я себя считаю законопослушным гражданином. Пока закон не принят, ты можешь критиковать законопроект, предлагать изменения, бороться. Но если он принят, что тогда? Надо его исполнять. А если он тебе ну совсем не нравится, то мир теперь большой. Поезжай жить в другую страну, где законы тебе больше подходят. В ситуации, о которой мы говорим, можно было продолжать критику, но можно было подумать о том, что важно сохранить науку хоть в каком-то виде. Мне было важно, чтобы мой институт в эти трудные годы выжил, был в нормальной форме и готов к тому, чтобы в случае изменения условий на благоприятные рвануть вверх из хороших начальных условий. В этом смысле я, если хотите, перешел в пассивное членство в «Клубе 1 июля». Да, мы встречались, обсуждали ситуацию в июне с моими коллегами-«июльцами», спорили. В итоге решили, что моего выдвижения от «Клуба 1 июля» не будет. Мое выдвижение инициировало отделение физических наук. Часть членов клуба меня поддерживала. И очень хорошо; я уважаю этих людей.
— "Пассивное членство" ведь не предполагает, что вы совершенно согласились с законом об академии…
— Нет. Принятый четыре года назад закон все равно содержал очень многие неприемлемые вещи — прежде всего про отделение институтов от Академии наук. Я всегда говорю и не скрываю: я считаю, что в 2013 году было принято неверное решение. Почему? Понимаете ли, в истории отечественной науки — и Советского Союза, и нового российского времени — этот сплав выбранных членов Академии наук и институтов был силой нашей науки. Эти вот люди, руководители научных школ, выбранные действительно по заслугам, были проводниками одобренных академией идей в научных институтах. Я бы даже сказал, что в трудные 90-е годы именно благодаря этому сплаву наша академическая наука выжила и сохранилась лучше, чем, скажем, отраслевая наука. А потом этот организм был рассечен надвое. До сих пор мы, члены академии, испытываем, как было сказано одним из наших коллег, «фантомные боли». Вы помните эту фразу? (Ее произнес в 2014 г. Михаил Ковальчук — прим. ред.) Она, по существу, правильная. И я тоже испытываю подобные ощущения. А что такое сейчас «Российская Академия наук»? В чем заключается работа ее члена? За что нам государство платит деньги? Ведь оно же нам платит — и неплохие, исправно, еще увеличило стипендии! Оно вправе нас спросить. Что такое работа в Академии наук, действительно надо переосмыслить. Ведь прежних принципов этой работы теперь нет.
 — И вот тут как раз будет уместным вопрос о том, каким вы видите ближайшее будущее академии. На днях вы сказали нечто вроде «мы не будем срочно просить денег. Мы должны сначала показать, что мы работаем». Что это будет за работа? Что вы хотите показать в ближайшее время — как президенту, так и всем остальным?
— И вот тут как раз будет уместным вопрос о том, каким вы видите ближайшее будущее академии. На днях вы сказали нечто вроде «мы не будем срочно просить денег. Мы должны сначала показать, что мы работаем». Что это будет за работа? Что вы хотите показать в ближайшее время — как президенту, так и всем остальным?
— Я считаю, что у нас имеется существенное недоверие между властью и Академией наук, властью и обществом. Даже 2013 год свидетельствует о том, что доверия нет. Когда судьбоносные решения относительно Академии наук принимаются без нее самой, то, очевидно, это и есть недоверие. И если доверие не будет восстановлено, то ничего хорошего и не будет. Но как вообще доверие появляется? На основе какого-то консенсуса между сторонами. Это работает между любыми партнерами, и даже между странами работает. Казалось бы, вот две страны, сложные отношения, ругаются. Но по какому-то поводу появляется консенсус: «Мы одинаково относимся к международному терроризму!»
— И на это можно опереться.
— Вот именно, вы правы! База для восстановления доверия есть: на основе нашего единого понимания состояния науки в стране. Оно, на мой взгляд, плохое. В большей или меньшей степени, но плохое. Мне кажется, что сама ситуация толкает нас к этому консенсусу. Для чего нужна наука, если подумать? Давайте по пунктам. Первое: если речь идет о фундаментальной науке, то это получение новых знаний, как мы любим говорить — «о природе, человеке, обществе». С этим у нас становится все хуже. Потому что получение знаний в данной области измеряется по международной шкале, фундаментальная наука едина для всех в этом мире. Здесь хорошо видно, кто успешно получает новые знания о природе, человеке и обществе, а кто их получает все меньше и меньше. У нас все меньше результатов хорошего международного уровня. Это факт, ничего с этим не сделаешь. Второе: ясно, что в наукоориентированных и технически развитых странах наука является производительной силой экономики. Этого у нас с вами тоже нет.
Третье: обычно наука имеет серьезное влияние на принятие важнейших государственных решений. У нас это есть с вами? Возможно, как-то и есть, но я полагаю, что по данному параметру мы тоже отстаем.
Четвертое: наука делает существенные вложения в повышение культурного уровня страны и общества, в увеличении некоего «суммарного интеллекта нации». Есть у нас это? Вы правильно вот сейчас рукой этак показали — по всем этим существенным положениям у нас отрицательная тенденция.
И это мы с вами даже не дошли до обеспечения «оборонки», например. Кто-нибудь скажет: да можно просто купить танки, ракеты или еще что-то. Пусть так, но ничего действительно современного никто тебе не продаст. Будь добр, опирайся на свои достижения и свою науку. А мы по многим статьям констатируем: «Научно-технический задел исчерпан!» В общем, и здесь не выполняет у нас в стране наука тех функций, которые должна выполнять.
И именно на том, что она их не выполняет (и мы все это фактически признаем!), как ни странно, может быть достигнут консенсус. Осталось только достигнуть еще одного консенсуса — в отношении оценки причин такого состояния науки в России. Я считаю, что одна из важных объективных причин вот какая: мы с вами взяли и прыгнули в совершенно иную социально-экономическую и политическую ситуацию. Прямиком из социализма отправились в рыночную экономику.
 — Но позвольте, все-таки четверть века уже прошла!
— Но позвольте, все-таки четверть века уже прошла!
— Нет, я говорю про нулевые годы — в эти годы стали появляться финансы в стране. Пошли нефтяные деньги. Понятно, что у всех возник вопрос: как правильно эти деньги тратить для того, чтобы быстрее пошло развитие страны? Мне кажется, что мы захотели, чтобы у нас поскорее стало так, как в передовой рыночной экономике «у них». А в стабильной рыночной экономике за рубежом, которая развивалась 100 или 200 лет, действительно, наука (в том числе даже и фундаментальная) финансируется не только государством, но и экономикой. Сколько вкладывает государство, и сколько вкладывает экономика — такого соотношения баланса, как у некоторых, у нас нет. У нас 80% вносит государство (смотря как считать, впрочем!) и 20% (а может быть, и еще меньше) — экономика. В Соединенных Штатах все совсем наоборот обстоит. Там в основном финансирует экономика. А мы прыгнули и посчитали, что у нас рыночная экономика, которая «задышала», и раскручивается, и уже сразу должна науку поддерживать.
— А она не очень захотела.
— Разумеется. Каков главный закон капиталистической экономики? Получить как можно большую прибыль при как можно меньших вложениях за как можно более короткое время. Прибыль — это мотор всего. А у науки очень длинные инвестиционные периоды. Наука не нужна нашей экономике, которая сейчас в основном существует как сырьевая. Она не дает быстрого оборота.
— Конечно, есть такие узкие отрасли, в которых нужна, но…
— Я согласен! А нужны — не узкие! Но для этого надо выдержать некоторую паузу. Уравнения Максвелла и Фарадея «выстрелили» спустя столетие, когда их вычисления стали производительной силой. Мы же такие открытия хотим делать, как и они сделали, правильно? Желание быстро сломать уклад и получить быстрый результат можно понять. Перед глазами понятные примеры: есть хорошая наука в США, Европе, Японии, продуцирует понятные результаты. И до 80% финансируется экономикой. Учтите, что государство наше в любом случае не может финансировать полные объемы, это вам не советское государство, которое все деньги полностью контролировало. Сейчас же основные деньги у частного инвестора находятся.
— Есть хорошие планы привлекать частные деньги, об этом мы не так давно говорили с Сергеем Матвеевым из Минобрнауки.
— Планы есть, конечно. Есть, в частности, межведомственная программа, которая была принята некоторое время назад, «Фотоника»: мол, вот будет такая цепочка, нас подхватит промышленность. Но все это пока не очень стартует. У промышленности нашей пока очень много гособоронзаказа. Зачем вот эти цепочки, когда они до 2020-х годов обеспечены? Не надо нам ничего! Все и так нормально! Да и президент, и все говорят: скоро придет время, что ситуация изменится, но когда это точно случится? Мы с сотрудниками Минобрнауки по этому поводу в нормальном контакте — и с Матвеевым, и с Трубниковым. Даже на встрече с Кудриным я, еще будучи кандидатом, участвовал в обсуждении вопроса «спасут ли „технологические цепочки“ науку?».
 — Может быть, наука тоже виновата в том, что «цепочки» не очень работают? Точнее, ответственна за это?
— Может быть, наука тоже виновата в том, что «цепочки» не очень работают? Точнее, ответственна за это?
— Мы в заведомо лучшем положении. Я совершенно убежден в том, что Российская академия наук в девяностые годы выжила и к началу нулевых годов оказалась в куда более лучшей форме, чем отраслевая и университетская наука, во многом благодаря тому, что академические институты и РАН были едины. Мы сохранили себя благодаря этой структуре для страны и были совершенно готовы к тому, чтобы дальше развиваться. У меня есть замечательная фраза, которую я часто цитирую. В.В. Путин, 2003 год, выступление на одном из первых советов по науке: «Возможности российской науки намного превосходят потребности российской промышленности». Вы понимаете, было понимание власти, что наука сохранилась в лучшей форме, нежели все остальное ! Это было в то время всеми признано.
— Получается, что некоторое время академия стояла на консервации, а сейчас она с новыми силами…
— Нет. Она была готова еще в нулевые годы. Но тогда был принят другой вектор. Я его называю в своей программе «вектором вестернизации науки»: чтобы как можно быстрее стать похожими на западных коллег, мы должны переорганизоваться так, чтобы деньги пошли в университеты, разные институты развития. И Академия наук в эти годы, несмотря на то, что продолжала (и до сих пор продолжает) давать основной вклад в научные результаты нашей страны международного уровня, несмотря на то что столько времени просидела на «голодном пайке», по-прежнему дает основной вклад. И в те годы, и в 2013 году Академия наук и академические институты были основными поставщиками научных результатов в стране. Вот смотрите сами: по-моему, в июле нашим законодателям была предоставлена информация относительно публикационной активности, и по ней выходило, что более 50% активности у нас приходится на вузы, а Академия наук совсем «скукожилась». Я, посмотрев на эти цифры, был крайне удивлен и попросил моих коллег: «Давайте мы не огульно будем считать, сколько всего публикаций. Если все-таки мы с вами в рыночной экономике как-то про науку говорим, продуктом считается то, что продаваемо».
— Отнюдь не любая научная публикация является продуктом.
— Вот именно. Как вы считаете, что можно счесть продаваемым или проданным продуктом в плане научных публикаций? Наверное, то, что на вашу публикацию ссылаются. Акт ссылки есть акт продажи тому, кому она оказалась нужна. Если на нее сослались, значит, она пригодилась в процессе производства другого результата. Но есть и другой простой показатель, ступенькой выше — уровень журнала, в котором статья была опубликована. Он определяется т.н. импакт-фактором (ИФ, численный показатель важности научного журнала, рассчитываемый как отношение цитирований статей данного журнала во всей массе научных журналов к числу опубликованных в данном журнале статей — прим. ред.). ИФ как раз показывает, насколько охотно ссылаются на журнал в целом.
— Это понятно. Лучше опубликоваться в Science, чем в «Частных вопросах свиноводства».
— И что тогда можно считать востребованным продуктом? Публикацию в каком издании? Наверное, там, где импакт-фактор составляет хотя бы единицу. А лучше — больше. Если мы возьмем статистику, которая была представлена законодателям по валу, просуммируем все без импакт-факторов журналов, то окажется, что более 100 позиций в списке публикационной активности (в абсолютном вале) занимают наши университеты. Можно открыть что угодно: Web of Science или что-то еще. Но если вы вставите туда фильтр с импакт-фактором хотя бы 1…
— И мне, кстати, однажды пришла в голову ровно такая идея…
— …то более 50 первых позиций занимают академические институты! Если мы говорим про качественную продукцию, по-прежнему академические институты дают основную часть этой востребованной по данному параметру продукции. А картинка в публичном сознании рисуется совсем другая.
 — Возможно, это естественное следствие сложившегося (или сложенного) в последние годы образа академии как места, где бессмысленно и со скандалами проедаются бюджетные деньги. Но реальность-то не такая, и образ нужно срочно менять.
— Возможно, это естественное следствие сложившегося (или сложенного) в последние годы образа академии как места, где бессмысленно и со скандалами проедаются бюджетные деньги. Но реальность-то не такая, и образ нужно срочно менять.
— Я всегда и всем об этом говорю. Когда мы с вами рассуждали о причинах нынешнего грустного состояния, мы не дошли до третьей причины. После проблем с финансированием и курса на вестернизацию это, конечно, пассивность самой академии. Мы живем в конкурентном и информационном обществе. А это значит, что если занимать позицию: «Не троньте нас! Мы внутри и сами справимся, у нас все нормально», не отвечать в том числе на какие-то упреки, не парировать уколы, не участвовать в конкурентной борьбе за финансовые ресурсы, то о вас скоро забудут и станут воспринимать как анахронизм. И недостаток активности со стороны академии стал одной из важных причин кризисного состояния науки. В том числе и академической. Это было. Это есть. Это факт. Я действительно думаю, я уверен, что политика РАН должна стать существенно более открытой и активной. Она должна поменяться и в том отношении, что вот вы, именно вы, являетесь интерфейсом между наукой, РАН и обществом. И только вы можете правильно донести обществу, как все обстоит на самом деле, кто ценен и почему. Но мы вам должны эту информацию открыто давать. Если мы не пошевелимся, ничего не получится для благоприятного освещения роли РАН в обществе — ни у вас, ни у нас.
— И не получается пока.
— Поэтому мы сегодня с вами и беседуем. Когда мы с вами говорим о всплеске интереса к научно-популярной литературе, то это здорово, что он есть, на самом деле здорово. Но пока что речь о простом любопытстве, его можно привлечь чисто медийными методами. А когда молодые люди, скажем, начинают задумываться о своем жизненном пути, все же начинают прикидывать: «А как там дальше? Хорошо, аспирантура и еще что-то, а дальше как пойдет?» И ведь вплоть до пенсии рассчитывают. Когда мы приходили в науку из университетов, нам говорили: «Если ты будешь вкалывать так-то и так-то, то через некоторое количество лет будешь похож на этого деятеля». Что, правда? Это же великий человек! Уважаемый профессор, почтенный академик! Да, я очень хочу такую жизненную траекторию, как у него! А сейчас что сказать молодому человеку? На кого он будет похож через 30 лет, если будет упорно вкалывать? Вы понимаете разницу в картинке между тем, что было, и сейчас? Зачем ему на эту траекторию вставать, извините? Нам нужно сделать так, чтобы престиж ученого, его карьера вообще на всех стадиях была интересной. Здесь Академия наук совершенно точно одна не справится. Мало того, и даже с вашей помощью не справится. Для того чтобы стать хорошим ученым, вносить вклад в науку, быть состоявшимся специалистом, чувствовать признание и уважение, надо в молодые годы долго и очень трудно учиться. Вот это «долго и трудно учиться» — как раз то самое, без чего вы в науке карьеру не сделаете. Это, к сожалению, сейчас не очень хорошо воспринимается и молодежью, и их родными. Почему? Есть много других, куда более простых траекторий, когда ты быстрее и с меньшим напрягом для себя сможешь завоевать материально обеспеченное и статусное положение в обществе. И здесь без государственной поддержки имиджа ученого, престижа этой профессии мы с вами никуда не сдвинемся.
— Без государства ничего не получится?
— Нет, не так. Скорее наоборот: только усилиями одной Академии наук мы сделаем немногое. Но без них ни пресса, ни государство нам не помогут. РАН нужно существенно активизировать и перестроить свою информационную политику. Есть хороший английский термин visibility. Нас должно быть видно! Если нас не видно, государство не сможет поднять престиж невидимки. Профессия ученого в стране не престижна сейчас! Понимаете, в чем дело? Но РАН даже с совершенно открытой политикой и информацией о своих успехах одна сделать ничего не сможет.
— Мне вот кажется, что за последние годы престиж профессии сильно повысился, но на 90% — за счет усилий некоторых отдельных научных центров. В основном университетских.
— И в академических институтах есть хорошие специалисты. Вы правы: если мы сейчас, и Академия наук, и основные центры, начнем себя пиарить, ситуация изменится. Но, с другой стороны, мы с вами живем в стране в некотором смысле византийской. У нас гораздо проще сделать это с меньшими усилиями, если, например, президент страны в свое послание Законодательному собранию или в предвыборную программу вставляет раздел о том, что он считает и в будущий свой президентский срок будет работать над тем, чтобы у нас в стране профессия ученого стала такой же, как она была и раньше, — престижной, очень важной! Если вы посмотрите в посланиях ЗС последних лет, сколько раз употребляется словосочетание «Российская академия наук»? В последнем нет вообще. Вот в чем дело! Университеты упоминаются. А академии нет. А главное послание президента Законодательному Собранию — это наша программа жизни. А потом мы вернемся к взаимодействию с прессой.
Нам не нужно получать новые научные результаты для того, чтобы прийти и рассказать обществу. У нас есть много результатов. Они получены. Мы о них просто не рассказываем. А надо.
Следующий шаг — медийные лица. Как нам правильно сделать, чтобы были медийные лица? Давались комментарии, которых бы ждали? Вот сейчас в Министерстве иностранных дел есть пресс-секретарь (Сергеев имеет в виду официального представителя МИД России, Марию Захарову — прим. ред.). Когда она появляется на трибуне, это притягивает взгляд. Когда она пишет, это событие. Все сразу прислушиваются к этому. Нам надо так и сделать — чтобы у нас появились лица, увидев которые по телевизору, все бы сразу настораживали уши, а не переключали канал.
 — Я как раз шел к этому вопросу. Собираетесь ли вы как-то перестраивать работу пресс-службы, сайта?
— Я как раз шел к этому вопросу. Собираетесь ли вы как-то перестраивать работу пресс-службы, сайта?
— А как же? Конечно! Мы будем это делать. Это не так-то просто. Есть идеи. Есть желания. Есть горящие глаза, извините за банальность. Но также есть и моменты чисто экономические. Потому что работа по созданию имиджа, по позиционированию в правильном информационном поле, вообще говоря, только на альтруизме делаться не может. Нужны профессионалы. Вы говорите «сайт». А как сделать такой сайт, который своими видами и возможностями общения был бы приятен? На который хотелось бы еще заходить и понажимать разные кнопочки? Это большая профессиональная работа. И нужны серьезные средства для того, чтобы все это выстроить. Вы меня извините, но Академия наук — небогатая организация.
— На днях, кстати, вы говорили о необходимости внесения изменений в ФЗ-253. Но у академии нет права законотворческой инициативы.
— Президент прямо мне сказал: «Если вы считаете нужным, подавайте предложения по модернизации правовых аспектов». Это очень хорошо, когда такое предлагают, потому что у нас есть предложения. Самая больная точка — это юридический статус Академии наук. С таким статусом мы не то что законодательной инициативой не обладаем, мы фактически никаких инструментов не имеем, чтобы даже в соответствии с Уставом принимать участие в формулировке и реализации государственной научно-технической политики. Поэтому данный вопрос нужно ставить, решать его в одной или нескольких смежных плоскостях, и быстро.
— Допустим, с одной стороны ФАНО, а с другой — Минобрнауки. Через кого вы предпочли бы попробовать внести эти изменения?
— ФЗ-253 касается Академии наук и ФАНО. Если действовать самым правильным образом, то следовало бы внести коррективы в ФЗ-253, в котором бы статус Академии наук был сформулирован не как ФГБУН, а как особый статус «Государственной академии наук». Он бы потом расшифровывался несколькими другими документами. Этот статус позволял бы РАН реально участвовать в формировании данной политики и нести ответственность. Сейчас, смотрите, что получается. За невыполнение государственного задания по программе фундаментальных исследований несет ответственность не Академия наук, а ФАНО. Потому что они учредители, а по всем нашим законам и правилам именно учредитель несет ответственность за невыполнение результатов. Скажите, пожалуйста, как так может быть, что за неполучение научного результата отвечает кто-то другой? А именно Академия наук должна нести ответственность за неполучение и невыполнение! А как это сделать? Она должна иметь полномочия по научно-организационному управлению академическими институтами. ФАНО должно четко отвечать за то, что они умеют делать, — административно-хозяйственную деятельность. Это огромный вал бюрократической работы в современных условиях существования бюджетных учреждений. Ученые не должны этим заниматься. Но Академия наук должна иметь право распределения бюджета и нести ответственность за то, правильно это распределено или неправильно.
— Как вы собираетесь это выстраивать?
— Ходить и просить деньги надо убедительно и с горящими глазами, как я говорю. А в отсутствие ученого глаза у кого горят? Ни у кого. Скажем, вы пришли просить деньги. Если вы не можете рассказать, для чего это нужно, сформулировать ярко и убедительно, вам никто денег не даст. В этом смысле, если только ФАНО просит, это не очень удачно. Руководителям этих двух организаций надо действовать сообща. Один будет убедительно, с горящими глазами говорить про науку, а другой будет объяснять: это все согласовано и будет четко обеспечено в административно-хозяйственном плане. Мне сейчас такая схема видится, хотя там могут быть и другие схемы.
— Насчет других схем я хотел спросить вот что: допустим, появляется отдельное министерство науки. Какие функции оно бы исполняло в треугольнике «Академия, ФАНО, министерство»?
— Такая схема тоже возможна. Но сразу уточню: сейчас не надо убирать ФАНО. Я чуть ли не единственный из кандидатов, который говорил, что этого делать не нужно. Другие говорили резче. На самом деле это не до конца еще использованные возможности этой связки. Давайте мы действительно подкорректируем так, чтобы все работало быстрее. Ведь здесь ничего перестраивать не надо! Закрывать ФАНО, открывать новые министерства? А что будет? ФАНО закрыли? И опять кадры набирают, туда-сюда гоняют. Что это такое? Я вообще выступаю за эволюционное развитие, без всяких революций. Схема с министерством науки может быть. Чем мне, как «академическому» человеку, это кажется не таким уж благоприятным? В ФАНО сосредоточены наши академические институты. Если они будут переданы министерству науки или министерству высшего образования и науки, туда же будут переданы и все остальные институты. То, за что мы бьемся и что лелеем, сообщество академических институтов будет там растворено. В том числе и среди других институтов, более прикладных или отраслевых — называйте, как хотите.
— Вы сами предложили в президиум академии всех остальных кандидатов. Но у них были другие программы. Не завязнут ли в президиуме ваши предложения в таком случае?
— Думаю, что нет. Во-первых, мои соперники на выборах — очень достойные и умные люди. А значит, их можно убеждать. Во-вторых, мы собрали в президиуме большую команду единомышленников, которые поддержали именно наше видение развития РАН.
— Вы наверняка знакомы со схемами построения науки в разных странах. Там они отличаются. Какая вам больше нравится и почему?
— Никакая! Советская. Извините меня. Несмотря на нашу рыночную экономику…
— Ну и китайская в таком смысле, потому что она очень похожа на советскую?
— Похожа. Мы же были старшим братом Китая. Это сейчас младшим братом стали. А раньше они на нас смотрели. Заметьте, они вкладывают в фундаментальную науку, Академию наук и свои академические институты в расчете на одного исследователя средства, несравнимые с нашими! В плане инструментализации они вкладывают в десятки и сотни раз больше средств в расчете на одного человека! В этом смысле, если хотите, давайте китайскую схему считать за нашу советскую, которая применена к рыночной системе. А так в разных странах все по-разному. Я всем рассказываю про RIKEN — государственный (сокр. Институт физико-химических исследований) — по-моему, и с вами мы про это говорили полгода назад. Почему Япония? Больше всего он похож на наш «Курчатник». Там четыре или пять институтов, которые в разных местах по стране расположены. Они имеют в основном государственное финансирование. Там работает всего 3000 человек (с учетом технического персонала). Деятельность ведется в разных направлениях: физика, химия, еще немного биология, neuroscience. Их ежегодное государственное финансирование составляет 750 млн долларов. Это, если мы переведем на сегодняшние реалии, окажется 45 млрд рублей. Фактически это финансирование не намного меньше финансирования академических институтов (около 50 млрд), которое они получают через ФАНО. Но в институтах РАН-ФАНО работает 125 тыс. человек. А там 3000! О чем мы говорим? Причем дело даже не в зарплатах. Там в расчете на одного человека на финансирование материальной базы (инструментов и прочего) идет в 100 раз больше средств. Как мы можем быть в какой-то конкуренции?
— Есть два способа, сильно отличающихся друг от друга: или получить гораздо большее количество денег, или оптимизировать то, что есть, чтобы имеющихся денег хватало.
— Мы сейчас вышли на очень опасную траекторию. Мы гордились, что у нас много ученых. Число ученых на миллион жителей страны сейчас уменьшается. Оно становится меньше, чем в тех странах, которые рвут вперед и строят свою научно-инновационную экономику. Мы говорим: «Да, можно пойти по такому пути. Давайте в четыре раза сократим ФАНО, численность институтов? У нас там в четыре раза больше средств будет на одного исследователя! Давайте сократим число ученых в два раза на миллион населения!» Если мы посмотрим на цифры, те страны — и тот же самый Китай, и Корея, — которые рвутся вперед, наоборот, увеличивают число ученых. Когда мы говорим об оптимизации, потому что конечно же экономика должна быть экономной, почему-то речь заходит только о том, что мы в четыре раза сократим существующие параметры и ученые будут в четыре раза больше зарплату получать. Но ведь они результатов от этого больше получать не будут! Ученые в нашей стране не голодают. У нас есть фонды, слава Богу, — РФФИ и РНФ. И хорошо! А инструмента для того, чтобы работать, никакого нет. Если мы сейчас сократим число ученых и пропорционально увеличим им зарплату, это не будет способствовать увеличению результатов.
— Я имел в виду не зарплату. Что если эти средства взять и пустить на счет смены инструментального фонда? 30 млрд рублей, например, которые вы упоминали сразу после избрания?
— Это не те деньги. Мы с вами говорим, а что такое 30 млрд? Давайте очень четко зафиксируем: майский указ президента № 599 что гласит? В 2015 году финансирование нашей науки должно было выйти на 1,77% ВВП. И совершенно не вышло, а осталось на уровне около 1,13%. Фундаментальная наука в этом году недополучит из-за невыполнения майского указа В.В. Путина около 80 млрд рублей! О чем мы с вами говорим? Про 30 млрд. Надо, чтобы эти наши финансовые структуры выполняли майский указ президента.
 — Как вы видите отношения между академической и университетской наукой?
— Как вы видите отношения между академической и университетской наукой?
— Сейчас надо возвращаться к программе интеграции, которая всегда была. Каждый должен делать дело, которое он лучше всего умеет делать. Когда мы с вами в 2000-2010 гг. университетам стали давать задания, чтобы основные научные результаты шли оттуда… чтобы инновационную экономику они стали поднимать. Но в чем их основная задача? Университеты, прежде всего, должны хорошо учить! Если они учат все хуже и хуже, а их заставляют мериться по шкале инноваций и науки, это совершенно неправильно. Вот когда они начнут учить лучше, тогда им можно будет что-то другое давать. Программа интеграции, которая была в конце 90-х — начале нулевых, была именно про это: давайте мы вместе сделаем так, чтобы каждый был лучше там, где является профессионалом. И чтобы помогали друг другу. Чтобы ученые, которые занимаются, шли в университеты, читали спецкурсы. Чтобы у них были воспитанники. А преподаватели в университетах —профессионалы! Для того чтобы базовые курсы читать, надо быть педагогом. В то же самое время они, как ученые, работают вместе с академическими институтами, и общая наука есть. Надо возвращаться к программе интеграции! Ничего в этом обидного для университетов нет. Но каждый должен сначала делать то дело, которое ему предписано, и делать его хорошо. А потом уже к этому можно что-то еще добавлять.
— Когда мы с вами беседовали еще до выборов, вы сказали, что если вас не выберут, то ваша жена будет так счастлива, что этого счастья хватит на двоих. Надеюсь, что теперь она не несчастлива, — ведь этого тоже обычно хватает на двоих?
— Разве я похож на несчастливого человека? (Смеется — прим. ред.) Все последние дни моя жена здесь, со мной, в Москве. Наверное, это показывает ее истинное отношение к этому делу. Да, конечно, ситуация сейчас изменилась. Думаю, что она сейчас по-другому, по своему, но счастлива. Уверен.
Екатерина Штукина