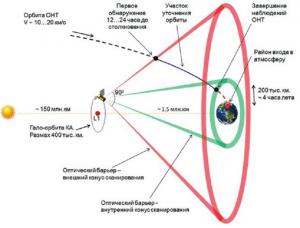Чем «оборонка» может помочь Новосибирску?
На обывательском уровне сложились устойчивые представления о том, что Россия совершенно не участвует в экспорте высокотехнологичной продукции. Будто основной (и чуть ли не единственный) вид экспорта – это природные ресурсы. Дескать, если уж мы разучились делать обыкновенные болты, а оборудование завозим из Европы и Китая, то можем ли мы предложить другим странам что-либо более серьезное, чем нефть, газ или лес?
Доля правды в таких суждениях есть, однако они никак не отражают всей картины, ибо на деле всё гораздо сложнее. Абсолютизировать сегодняшнюю ситуацию не стоит. Может показаться парадоксальным, но в России еще есть предприятия, хорошо зарекомендовавшие себя на мировом рынке высокотехнологичной продукции. В основном эти предприятия относятся к оборонно-промышленному комплексу, что совсем не удивительно, поскольку с советских времен именно в «оборонке» сосредотачивались лучшие, высококвалифицированные и интеллектуальные кадры (да и значительная часть академических институтов так или иначе работала на нужды оборонной отрасли). Данным обстоятельством во многом объясняется плохая информированность наших граждан относительно того, чем занимаются и что конкретно выпускают на этих предприятиях – ведь «оборонка» (в силу режима секретности) традиционно была закрытой темой для широкой общественности.
Показательным примером в этом отношении является российская холдинговая компания «Швабе», которая объединяет крупнейшие предприятия страны, работающие в сфере оптической науки и оптического приборостроения (по современной терминологии – в сфере фотоники). В структуру холдинга, в частности, входит известное в нашем городе приборостроительное предприятие – «Новосибирский приборостроительный завод». Основные направления деятельности холдинга связаны с оптико-электронными системами для авиации, с космическим приборостроением, с лазерными системами, с фотоприёмными устройствами, с оптическими материалами и технологиями, со сберегающей светотехникой и с медицинской техникой.
Красноречивым фактом в данном случае является то, что продукция «Швабе» поставляется в 95 стран мира. Доля экспорта в выручке составляет не менее 13% и имеет тенденцию к росту.
Странное для нас название холдинга связано с его историей, начавшейся еще в 1837 году, когда в Москве были основаны мастерские доктора Теодора Швабе, где занимались изготовлением и продажей высокоточных оптических приборов. Компания уже в ту пору имела высочайшую деловую репутацию и являлась Почетным поставщиком Императорского двора Его Императорского Величества.
Чтобы подчеркнуть связь с историей, созданный в 2009 в составе государственной корпорации «Ростех» холдинг назвали в честь знаменитого доктора Теодора Швабе. Несмотря на то, что компания была создана в соответствии с государственной политикой реформирования и развития российского ОПК, входящие в состав холдинга предприятия (в том числе – "Новосибирский приборостроительный завод") активно занимаются созданием гражданской высокотехнологичной продукции. В настоящее время холдинг готов использовать свой научно-производственный потенциал для разработки и производства различных систем «умного города».
Прежде всего, речь идет о модернизации городской инфраструктуры с учетом современных инновационных технологий. Здесь выделено два направления, условно обозначенные как «Светлый город» и «Безопасный город». Концепция «Светлого города» касается современных инновационных решений по освещению городских улиц, парковых зон, подсветки архитектурных зданий. У компании есть конкретные проектные решения, созданные на основе автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО). Применение такой системы позволяет сделать освещение города легко управляемым, экономичным и оперативным. Кроме того, дополнительный (и очень серьезный) эффект достигается за счет внедрения светодиодных ламп, благодаря чему расход электроэнергии снижается на 45-50% (при одновременном повышении качества).
Отметим, что в настоящее время для освещения улиц используются в основном газоразрядные источники света.
По расчетам специалистов «Новосибирского приборостроительного завода», энергопотребление одной тысячи таких светильников составляет 250 кВт.час. Если брать средний тариф на электричество в Новосибирске (2,42 руб. за 1 кВт.час), то общие затраты на электроэнергию составят 3,53 миллионов рублей в год! При переходе на светодиодные светильники общее энергопотребление будет составлять 120 кВт.час. Годовые затраты при этом снизятся до 1,69 миллионов рублей. То есть чистая экономия при замене только одной тысячи светильников составит 1,83 миллиона рублей в год!
Концепция «Безопасный город» включает конкретные решения по управлению дорожным движением, по управлению общественным транспортом, по управлению парковочным пространством, по управлению содержанием дорог, весогабаритному контролю и метеообеспечению. Сюда же входит интеллектуальная транспортная система, предназначенная для обеспечения безопасности и эффективного управления дорожным движением, содержанием и сохранностью автодорог, а также взиманию штрафов и возмещению вреда, причиненного дорогам тяжеловесными машинами.
Принципиально то, что перечисленные выше технические решения уже реализованы на практике. Так, в городе Улан-Удэ произвели замену устаревшего осветительного оборудования на энергоэффективное. Было установлено более 10000 уличных светильников производства «Новосибирского приборостроительного завода». Работы проводились в рамках энергосервисного контракта по модернизации системы наружного освещения. Стоимость установленной системы освещения превышала 80 миллионов рублей, однако на реализацию программы город не потратил из своего бюджета ни копейки. По условиям контракта заказчик платил не за установку оборудования, а только за его обслуживание. Тем самым затраты на модернизацию облика города оказались нулевыми! Городские власти оплачивают работы поэтапно - за счет средств, полученных от экономии энергетических ресурсов. Это примерно от 1,1 до 1,8 миллионов рублей ежемесячно (в зависимости от уровня потребления электроэнергии). То есть, в течение 4-5 лет город способен полностью рассчитаться за установку оборудования (не обременяя себя при этом дополнительными затратами).
Согласимся, что лет двадцать назад мало кто из нас мог себе представить подобное участие наших оборонных предприятий в повышении качества жизни обычных людей. Полагаю, что при реализации аналогичной программы в Новосибирске это событие стало бы знаковым для всей страны. Мы много говорим о том, что наш город славится своими оборонными предприятиями. Полагаю, что именно такой «творческий союз» городской администрации и оборонщиков по реализации программы «умного города» реально подчеркнул бы статус Новосибирска как интеллектуальной столицы Сибири. После чего в глазах жителей города значимость предприятий ОПК перешла бы из плоскости идеологической абстракции (как это происходит сейчас) в сферу реальной жизни.
Олег Носков
- Подробнее о Чем «оборонка» может помочь Новосибирску?
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии