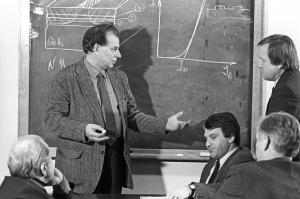Жорес Алферов не нуждается в отдельном представлении, разговор с лауреатом Нобелевской премии по физике не требует информационного повода. А список званий, наград, публикаций и достижений выдающегося советского и российского ученого не уместился бы и на целой газетной полосе. «Культура» встретилась с Жоресом Ивановичем, чтобы поговорить о прошлом, настоящем и будущем.
Культура: Сегодня СМИ часто пишут об угрозе, которую представляет для человечества искусственный интеллект. Если смотреть шире — реально ли создать что-то, что превзойдет наш собственный разум?
Алферов: Я в последнее время много думал об образовании и идеях, связанных с нанотехнологией и наноэлектроникой. Любой компьютер состоит из программного обеспечения, которое очень бурно развилось, и материальной базы, то есть кремниевых чипов и гетероструктур. Напомню, что Нобелевская премия по физике была присуждена в 2000 году за развитие информационных технологий: Джек Килби получил награду за кремниевые чипы, а мы с Гербертом Крёмером — за гетероструктуры. О последних я хотел бы сказать отдельно. На самом деле, гетероструктуры работают как возможность путем изменения химического состава электронных компонент создавать принципиально любые иные компоненты.
Японский физик Лео Эсаки, мой старый товарищ и в чем-то конкурент, который получил Нобелевскую премию за туннельный эффект в полупроводниках, как-то сказал, что есть кристаллы, созданные Богом (кремний, например), и кристаллы, сделанные человеком, то есть гетероструктуры. Бог их не создавал, и они гораздо лучше естественных.
Можем ли мы сотворить нечто выше того, что дано природой? Думаю, да.
Культура: В продолжение темы хотел спросить — квантовые компьютеры будут?
Алферов: В том, что будут, я не сомневаюсь, а вот какую роль они станут играть, не берусь сказать. Идеология квантового компьютера вполне реализуема, конечно. Но время покажет, какие новые возможности мы получим, пока рано судить.
Культура: В связи с развитием технологий особенно важным кажется вопрос об общественном устройстве. Говорят, что капитализм будет меняться...
Алферов: В свое время меня поразила опубликованная в мае 1949 года статья Альберта Эйнштейна «Почему социализм?». Великий физик очень четко обосновал, почему будущее — за социализмом. Он показал, каким кошмаром является капиталистическая система, которая обязательно ведет к власти олигархов и олигархии. Одной из самых страшных вещей он считает деформацию системы образования: люди со школы привыкают к тому, что главное быть победителем. В капиталистической системе люди отнимают друг у друга собственность и воюют друг с другом на совершенно законных основаниях. И это — не бандиты на большой дороге.
Культура: Разве не в природе человека заложено быть победителем?
Алферов: В природе человека — соревноваться, выигрывать, но быть первым, не подавляя других. Вопрос цены. Эйнштейн видел выход в социалистической системе и плановом ведении хозяйства.
Культура: Эти идеи актуальны и сейчас?
Алферов: Что, с моей точки зрения, изменилось сегодня? Один из дефектов нашего советского планирования, Госплана, состоял в том, что оно в какой-то момент стало слишком детальным: расписывалось по всем мелочам вручную. Развитие компьютеров снимает эту проблему. Сегодня, если вы начали какое-то производство, то можете пропланировать все, причем быстро и просто. Но встает проблема стратегии.
Все-таки нужно понимать то, на что у нас мало обращают внимания. Капитализм — это частная собственность на орудия и средства производства, такова его главная черта. Она мешает стратегическим крупномасштабным планам. Поэтому Эйнштейн прав в том, что социализм придет на смену капитализму, который замедляет развитие из-за кризисов и отсутствия планирования.
Культура: Какой должна быть собственность? Чьей?
Алферов: Общественной, государственной. Частной она может быть в сфере обслуживания, в мелком и среднем бизнесе и, я хотел бы подчеркнуть, в стартап-компаниях. Придумал что-то, создал фирму — заработай! Но если это перерастает в крупномасштабное производство, здесь частная собственность недопустима.
Культура: Сложный переход. Кто же крупное производство из частных рук отдаст?
Алферов: Простите, это же было реализовано. Советский Союз с общественной собственностью на орудия и средства производства, со многими следствиями этого (с бесплатной медициной, образованием, развитием науки) был очень удачным экспериментом. Бертран Рассел сначала относился к СССР и Ленину крайне отрицательно, но потом изменил свою точку зрения. У него есть фраза о том, что Альберт Эйнштейн был гением мысли, а Владимир Ленин был гением действия. То, что Владимир Ильич смог, это было уникально. Вспомним, что многие большевики после Февраля считали, что вот она — революция и ничего, дальше будем жить в буржуазно-демократической системе. А Ленин заявил: «Нет, мы перейдем к социализму сразу» (эта мысль изложена в его «Апрельских тезисах»). Он понял, что возникла уникальная ситуация: братание на фронте, ужасное положение в стране в целом... Партия большевиков насчитывала где-то 30 тысяч человек, после Февраля выросла до 200 тысяч, она была немногочисленной, в период Февральской революции добрая половина ее членов вообще была в Сибири. И как эта крохотная организация смогла взять власть в свои руки? Я помню, мы еще в школе учили, параграф в учебнике истории назывался «Триумфальное шествие Советской власти»: за короткий период времени Советская власть установилась во всей стране, и если бы не интервенция, то не было бы и Гражданской войны.
Культура: Гражданская война не из-за раскола общества и страны случилась, а из-за интервенции?
Алферов: Белые, конечно, теряли много, но без очень активной помощи из-за рубежа, с высадкой десанта, отправкой войсковых соединений, никакого долгого сопротивления они бы не оказали.
Культура: Советский Союз был успешен? Сегодня СССР часто ругают. Правда, уже без той злобы, что была в 90-е...
Алферов: Мы смогли в Отечественную войну выстоять! Но дело не только в этом. Приведу слова лауреата Нобелевской премии по экономике Джеймса Хекмана, профессора Чикагского университета. Он во время круглого стола нобелевских лауреатов, проводимого ВВС, сказал такую фразу, я люблю ее цитировать: «Научно-технический прогресс второй половины ХХ века полностью определялся соревнованием СССР и США, и очень жаль, что это соревнование закончилось». Это не мои слова, а профессора экономики из Чикаго.
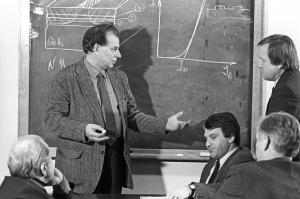 Культура: Но соревнование же закончилось еще до распада Советского Союза?
Культура: Но соревнование же закончилось еще до распада Советского Союза?
Алферов: Ничего подобного! Оно закончилось, когда мы ликвидировали свою промышленность, уничтожили первую десятку оборонных промышленных предприятий, которые производили 60 процентов высокотехнологичной гражданской продукции. Есть люди, которые положительно относятся к Ельцину, — я этого не понимаю! Мы сегодня говорим: Крым вернули — да, достижение. А человек отдал половину территории страны, половину! Я до сих пор удивляюсь, как Съезд народных депутатов РСФСР в 90-м году мог проголосовать за суверенитет РСФСР от Советского Союза! Из почти тысячи депутатов только 13 выступили против. Кем нужно быть, чтобы взять и проголосовать за то, что нам не нужен Советский Союз: мол, мы республики кормим. Как это мы их кормим? Как можно жить без Украины, без Белоруссии, без Казахстана? Да половина Средмаша было в Казахстане. Уникальные золотые разработки — в Узбекистане. На Украине какая мощнейшая промышленность: «Южмаш», сельское хозяйство. Лишь Белоруссия, благодаря Лукашенко, смогла возродить свою технологическую базу.
А мы взяли и ликвидировали нашу промышленность, высокотехнологичные отрасли, выбросили в приватизацию. Мы действительно определяли — прав был Джеймс Хекман — научно-технический прогресс всего мира, мы раньше всех сделали светодиоды, полупроводниковые лазеры, СВЧ-транзисторы, у нас было уже опытное производство. Его взяли и уничтожили в начале 90-х, разгромив всю электронную промышленность Советского Союза.
Культура: Что-то же мы просто копировали?
Алферов: Да, Зеленоград практически не имел ни одного патента, а просто копировал кремниевые чипы. Но в области кремниевой микроэлектроники, занимаясь копированием, мы были на том же уровне, что и Запад. У нас в Минске предприятие «Планар» занималось тем, что создавало аппаратуру, степперы, которые переносили изображение интегральной схемы на кремниевую пластину. Каким было предприятие «Планар»? Чистые комнаты на глубине восемь метров под землей, чтобы развязаться от метро, трамваев. Степперы производили три страны — СССР, США и Голландия, они определяли технологический уровень кремниевой микроэлектроники, и пока у нас работал «Планар», мы были на одном уровне.
Ошибка была в том, что существовал слишком большой военный флюс: у нас часто не понимали, что микроэлектроника, а позже возникшая наноэлектроника — это двигатель развития промышленных технологий. Но наша электронная промышленность — три миллиона человек, три тысячи предприятий, 400 КБ и институтов во всех 15 республиках. А сегодня она осталась в Белоруссии и в России, да и у нас в стране — 20% от того, что было в советское время, во всех остальных республиках просто ничего уже нет, нужно снова воссоздавать.
Культура: Воссоздавать из какой точки? Насколько все плохо?
Алферов: Отраслевая наука у нас практически погибла (за исключением военной) при ликвидации промышленности. Вузовская тоже, поскольку она жила за счет хоздоговоров с предприятиями, что-то сохранилось в Академии наук, с потерями, но все же.
Новым законом РАН превращена в клуб ученых, так что мы нанесли почти смертельный удар по академической науке. Я хочу сказать следующее: науку в России возродить указами, программами, проектами совершенно невозможно. Есть один путь: поднять промышленность. Наука может развиваться только при одном условии — когда она нужна. А она нужна при наличии могучей, высокотехнологичной промышленности. И вот если мы возродим ее, мы возродим и науку.
культура: Уже, видимо, речь идет о цифровой промышленности.
Алферов: Мы сегодня много говорим о цифровой экономике, микро- и наноэлектронике. Но, простите, чтоб была цифровизация промышленности и экономики, должна быть промышленность! А что мы цифровизировать будем?
 Культура: Если мы вступаем в эпоху цифровой экономики как человечество в целом — общество же должно меняться в связи с переходом?
Культура: Если мы вступаем в эпоху цифровой экономики как человечество в целом — общество же должно меняться в связи с переходом?
Алферов: А оно уже изменилось. Информационные технологии стали влиять на социальный облик общества, это произошло. С одной стороны, технологически в промышленном производстве мы стали многое быстрее делать. С другой стороны, молодежь из-за смартфонов потеряла интерес к литературе, к языку.
Культура: При этом количество информации все время увеличивается и как-то надо ее обрабатывать.
Алферов: Я думаю, что нельзя переоценить роль школ и учителей. Информационные технологии, конечно, все помогают найти быстрее, актуализировать информацию. Но проблема в другом — а как смотреть на эту информацию? Вот тут огромно влияние школы. Хорошие ребята учатся в нашем лицее «Физико-техническая школа» Академического университета, но хорошие-то они прежде всего потому, что мы воспитываем прекрасных учителей. Нашему лучшему учителю математики, Валерию Адольфовичу Рыжику, 80 лет. Я часто прихожу к нему в класс, а урок он отдает вести своему ученику. Вот это воспитание совершенно необходимо.
К сожалению, одна из современных бед, причем практически везде: люди стремятся заработать, быстро получить деньги и положить в карман, забыв обо всем остальном. Очень редко даже ученые думают, как развивать то или иное научное направление, на что это повлияет. Неприлично много развелось специалистов, мастеров по грантам: человек одно и то же исследование продает 4-5 раз, имеет 4 гранта. Это стало массовым явлением.
Я думаю, система финансирования науки, которая была у нас раньше, в значительной степени более прогрессивная. Вы финансируете научное учреждение — и хорошо... Гранты стоит давать в первую очередь молодежи, чтобы талантливые люди проявлялись. А когда вы стараетесь перевести бюджетное финансирование в грантовое, вы уничтожаете научное учреждение.
Культура: А какая идеальная система? Учреждению выдаются деньги, и оно что-то делает, а государство спрашивает потом?
Алферов: Научные учреждения имеют бюджет, они могут получать дополнительные средства, когда эти деньги выдаются промышленностью. В системе чисто научной мы имели программы Академии наук, но когда развели большое количество контор, которые выдают гранты (при этом люди, которые этим занимаются, не являются специалистами), то у нас, естественно, все пошло не туда. Сразу рождаются мастера по выигрыванию грантов. Российский фонд фундаментальных исследований был при своем рождении положительным явлением, но когда таких фондов появилось много, начались проблемы. Но наука у нас будет развиваться тогда, когда она будет востребована экономикой. Мой знакомый, покойный уже Джордж Портер (был одно время президентом Лондонского Королевского общества), замечательную фразу сказал: «Наука вся прикладная, разница только в том, что отдельные приложения реализуются быстро, а некоторые через столетия».
 Культура: Хотел уточнить о Вашей депутатской деятельности. Вы не возглавляете комитет по образованию и науке?
Культура: Хотел уточнить о Вашей депутатской деятельности. Вы не возглавляете комитет по образованию и науке?
Алферов: Я не могу и не хочу. Возраст, много других задач — никакой комитет я не возглавлю. При председателе Госдумы Вячеславе Володине создается Научный совет, который сможет влиять на науку и образование, — надеюсь поработать там. Мне жаль, что в состав парламента не вошел Валерий Александрович Черешнев, которого лидер «Справедливой России» Миронов задвинул в свое время в середину списка. Это большая потеря.
Культура: В западных журналах сейчас много критики такого рода: в свое время был большой научный рывок, а сейчас все топчутся на месте и воспроизводят, что было в 60–70–80-е годы, все работает на старой базе, и прорывов нет. Вы с этим согласны?
Алферов: Сказать, что совсем прорывов нет? Нет, я с этим, конечно, не согласен. Но опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Было соревнование двух систем и двух великих стран, и побеждать можно было не с помощью финансовых махинаций, а с помощью научно-технических прорывов. Уничтожение Советского Союза повлияло на прогресс в мире, западным странам не с кем стало соревноваться. И потому все вылилось в гонку за прибылью. От распада СССР проиграли все.
Тем не менее в областях, которые могут дать непосредственный результат через столетия, — например, в астрофизике, в исследовании «черных дыр», «темной энергии», появились совершенно новые вещи, интересные, важные. Наука все равно развивается.
Культура: Где сейчас прорывные направления? Какие направления науки будут развиваться быстрее и определять будущее?
Алферов: Я могу сказать, исходя из самых общих соображений, мы находимся на ранней, начальной стадии понимания биологических процессов. То есть осознания того, как формируется живое. Здесь дальнейшее развитие даст нам очень много, в том числе и для технологических прорывов в биомедицине, в нанобиотехнологии. К этому сегодня нужно очень внимательно относиться, мы можем вживлять чипы в человеческое тело, и из этого следует масса интересных, отдельных сюжетов. Нанобиотехнология — вот область, где уже есть — и будут еще — большие прорывы.
Михаил Бударагин