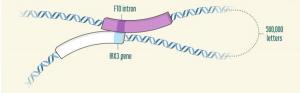Беседа с главой КФХ «Сад Шубиной», кандидатом сельскохозяйственных наук Людмилой Шубиной об опыте выращивания винограда в Сибири в пленочных теплицах.
- Людмила Николаевна, что конкретно подвигло Вас заняться в Сибири выращиванием винограда? Почему Вас заинтересовала эта культура?
– Я начала заниматься виноградом десять лет назад. Так получилось, что однажды у меня возникла чисто профессиональная «зависть», когда здесь, на выставке, я увидела просто великолепный виноград, выращенный одним новосибирским садоводом-любителем. Я была в восторге от увиденного. Конечно, мне было известно о таком опыте, о том, что у нас под Новосибирским этим делом занимаются уже давно. Но здесь, на выставке, я увидела, что называется, настоящий южный виноград – замечательные крупные грозди прекрасных сортов. И поскольку в нашей семье виноград очень любят, как раз и возникло желание заняться его выращиванием.
- Я очень часто слышу: зачем, мол, тратить на это время, если винограда полно на рынке. Чем Вас не устраивал покупной виноград?
– Дело в том, что тот южный виноград, который мы видим на прилавках, есть зачастую просто невозможно. Известно, что его обильно опрыскивают химикатами на всех стадиях роста. К тому же его усиленно подкармливают ради высокой урожайности. Образно говоря, в таком винограде просто нет «живого места». И я, как приверженец экологически чистой продукции, стараюсь выращивать все культуры так, чтобы не вредить своему здоровью. К еде я отношусь очень избирательно, и в магазинах мало что покупаю. То же самое касается и винограда. Как я уже сказала, его очень любят в нашей семье. Поэтому, увидев на выставке прекрасные грозди выращенного в наших краях, в городе Обь, винограда, я и задалась вопросом: неужели мне, профессиональному агроному, не по силам такая задача?
- Пришлось ли Вам применить для этого что-то новое или Вы пошли проторенным путем?
– Я, естественно, внимательно изучила все подходы к выращиванию винограда в наших условиях. И некоторые приемы, распространенные у сибирских виноградарей, показались мне неверными. У нас многие виноградари применяют слишком сложную агротехнику. В первую очередь это связано с использованием глубоких траншей. Считается, что без них никак нельзя и якобы именно они играют какую-то решающую роль. Однако такие приемы - просто хождение по мукам! Понимаете, любая нормальная технология должна быть максимально упрощена. В противном случае вы будете – ухаживая за тем же виноградом – постоянно получать поток негативных эмоций. Для себя я сделала такой вывод: винограду нужна определенная сумма эффективных температур, где-то на уровне 2800 – 3000 градусов. Для выполнения таких условий его проще всего выращивать в закрытом грунте. Поэтому первые лозы были у меня высажены именно в теплице. Конечно, какая-то часть б– ыла помещена в траншеи в открытом грунте – в целях сопоставления методов. Последний вариант – в чем я наглядно убедилась – является негативным.
- У нас почему-то именно глубокие траншеи связываются с выращиванием винограда «по-сибирски». Выходит, это всего лишь навязчивый стереотип?
– Я считаю, что этот прием – просто издевательство над собой и над виноградной лозой. У меня вот уже в течение десяти лет виноградная лоза прекрасно себя чувствует в теплице, без всяких траншей. Виноград отлично вызревает, вызревает и лоза. В закрытом грунте мы убиваем сразу нескольких зайцев. Во-первых, добиваемся существенного «забега» в вегетации. Не удивительно, что сроки созревания ягод в наших теплицах соответствуют широте города Сочи. Некоторые ранние сорта мы начинаем потреблять уже в конце июля и в начале августа. Во-вторых, ввиду того, что виноград в теплице не подвержен воздействию осадков, он не болеет мильдью. Уверяю вас, это абсолютно точно! Ведь как мы знаем, мильдью распространяется на винограднике благодаря дождю, когда споры грибка вместе с дождевыми каплями попадают на листья. Между прочим, такие популярные у новосибирцев сорта винограда, как Алешенькин и БЧЗ очень восприимчивы к этой болезни. А поместив их в теплицы, мы тем самым отсекли этот отрицательный фактор. Тем самым мы не нуждаемся в обработке лозы специальными препаратами. Кроме того, в теплице замечательно вызревает лоза. Благодаря этому мы получаем большое количество хорошо вызревших черенков, из которых потом выращиваются саженцы. Соответственно, для нас, как для фермерского хозяйства, в этом есть еще и дополнительная экономическая выгода – производство и продажа посадочного материала.
- Хотел бы еще раз вернуться к траншеям. Мне доводилось слышать, будто такой прием обоснован научно. Есть ли от них, на самом деле, хоть какая-то польза?
– Понимаете, лоза в траншее – всё равно что в погребе. На мой взгляд, от траншей только один вред, никакой пользы. Некоторые считают, будто упрятав туда лозу, мы спасаем ее от вымерзания. На этот счет я приведу вам результат испытаний, которые проводил известный новосибирский виноградарь Яков Тихонович Кирчик. У него в советское время даже выходила книга «Виноград в Сибири». Его в каком-то смысле можно назвать ученым-самородком. Он много работал с виноградом и проводил самостоятельные исследования. Я была у него на даче и беседовала с ним на эти темы. Яков Тихонович очень скрупулезно исследовал температуру почвы на разной глубине. Он специально сравнивал траншейный и бестраншейный способ выращивания. У него были оба типа возделывания. Он делал глубинные скважины и помещал туда термометры. Так вот, согласно данным, которые были получены, траншеи не дают никаких преимуществ с точки зрения защиты винограда от низких температур. Никакой разницы в температурах траншеи не показали. Скорее, наоборот – в траншеях температура была даже чуть ниже. Поэтому их использование лишено всякого смысла.
Я думаю, траншейный способ появился из-за того, что когда-то давно в наших краях были очень сильные морозы, когда почвы промерзали на большую глубину. Возможно, так и возникла идея упрятать лозу поглубже в грунт. Хотя, как я уже сказала, с точки зрения защиты от холода траншея не сыграет никакой роли. Кроме того, во время вегетации корням там слишком холодно, почва не прогревается как следует. Некоторым виноградарям для этого приходится специально прогревать почву в зоне корней, расстилая по дну траншеи пленку. Ведь корням на первых фазах роста тепло куда важнее, чем почкам. Поэтому траншея не решает проблемы, а создает дополнительные трудности.
Кстати, когда я познакомилась с Кирчиком, я еще не выращивала виноград, а только собиралась это делать. Его многолетние труды показались мне довольно убедительными. И впоследствии уже мой опыт выращивания винограда подтвердил его выводы. Все раннеспелые сорта винограда, даже в открытом грунте, прекрасно себя чувствуют без всяких траншей. Это относится, в том числе и к некоторым крупноплодным сортам. Хотя в теплице они вызревают, конечно же, намного раньше.
- То есть, в отрытом грунте тоже можно успешно выращивать виноград?
– Сочетая теплицу и открытый грунт, мы создаем конвейер и расширяем сроки потребления свежего винограда. Так, в конце июля созревает виноград в теплице, а в более поздние сроки мы можем срывать грозди с тех кустов, которые находятся в отрытом грунте.
- А можно ли в теплице вырастить известные сорта, которые поступают с юга на наш рынок? Скажем, Тайфи розовый, кишмиш черный, Хусайне белый?
– Ну а почему нельзя? Думаю, это вполне возможно. Вот у меня есть сорт Надежда АЗОС. Он созревает на две-три недели позже, чем ранний сорт Алешенькин. Обычно Алешенькин мы начинаем потреблять в двадцатых числах июля. А Надежда АЗОС поспевает где-то 15 – 20 августа. На юге этот сорт поспевает в тех же числах. Поэтому в теплице вполне можно выращивать более поздние сорта винограда. И это, на мой взгляд, совершенно оправданно.
- Интересно, а как отражаются тепличные условия на фенофазах?
– Знаете, тут многое зависит от того, в каких числах вы покрыли теплицу пленкой. У нас одна теплица покрывается в конце марта, другая – в начале апреля. И из-за этого фенофазы уже не совпадают, потому что чем раньше вы покроете теплицу, тем быстрее начнут распускаться почки у винограда и быстрее созреют ягоды. Весенне солнце, кстати, очень хорошо прогревает внутреннее пространство. А для винограда, скажу вам, принципиальное значение как раз имеет апрельское и майское тепло.
- А в каких числах обычно начинают распускаться почки у винограда? Когда он «стартует», в зависимости от времени покрытия теплицы пленкой?
– Обычно почки начинают распускаться через три недели после раскрытия куста, когда пленка уже натянута. Вот у нас сейчас, то есть в первых числах апреля, у нескольких кустов уже началось сокодвижение. Лоза «заплакала». Это говорит о том, что корни заработали. Значит, через пару недель начнут распускаться почки. Обычно они распускаются где-то в середине апреля. То есть достаточно рано. Иногда, чтобы задержать распускание почек хотя бы на неделю, даже приходится обрабатывать лозу железным купоросом.
- Это ведь даже раньше, чем на Дону. Получается, что тепличный виноград при раннем раскрытии кустов «стартует» у нас как на широте Кубани!
– Именно так. Вы знаете, я часто размещаю в Интернете видеосюжеты о сборе винограда. И мои знакомые с юга не могут поверить, что он у нас поспел раньше, чем у них.
- А это не опасно – так рано раскрывать виноград и готовить его к «старту»?
– В самом конце марта каких-то особых лимитирующих факторов у нас уже нет. Главный ограничитель здесь – снегопад. Но не для винограда, а для конструкций. Ведь если повалит сильный снег, то теплицу может раздавить. А для самой лозы каких-то катастрофических условий уже не возникает. Для борьбы с сильными возвратными заморозками можно использовать дополнительное укрытие кустов или включать тепловые пушки. У нас такие возможности есть.
- Получается, что мы у себя вполне можем замахнуться и на поздние сорта, вызревающие только на юге страны.
– Да, я как раз испытываю некоторые поздние сорта. Причем не только столовые, но и технические. Например, Каберне Совиньон. В этом году этот сорт, кстати, должен дать первые сигнальные грозди. Он был привезен с крымских виноградников вместе с такими всемирно известными сортами, как Мускат гамбургский, Мускат александрийский, Саперави и Победа. Эти сорта как раз поздние. Все они посажены в теплице, поскольку в открытом грунте их выращивать бесполезно. Для открытого грунта великолепно подходит латвийская Зилга. Этот сорт хорош во многих отношениях, в том числе и для изготовления вина. Но нам все-таки хочется двигаться дальше. А тепличное виноградарство у нас в Сибири почему-то не очень хорошо распространено. Все зачем-то прячут виноград в траншеи. Я же считаю, что такой прием и технически очень сложен, и винограду там гораздо хуже, чем в теплице. А внутри теплицы мы создаем, в сущности, самые настоящие южные условия.
Беседовал Олег Носков.