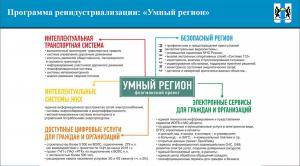Некоторые, возможно, уже и не помнят, что в середине «нулевых» у нас в Новосибирской области и в городе активно «разминали» тему переработки бытовых отходов. На первый взгляд, мысль была здравой, да и зарубежный опыт как будто наглядно демонстрировал: мусор – это прекрасный источник сырья для легкой промышленности, можно сказать – залежи почти бесплатных полезных ископаемых. Хорошо помню яркие презентации тех лет, когда нам рассказывали, например, о том, как в Гонконг из Америки идут целые баржи с бытовыми отходами. Это было главным аргументом в пользу хозяйственного обращения с мусором, который объявляли чуть ли не новым «золотом». Местная власть тогда также включилась в эту тему, результатом чего стало появление в Новосибирске Мусороперерабатывающего завода № 2. Казалось, мы стоим на пороге новой эпохи. Однако, что-то здесь все-таки не «срослось».
Сегодня былого ажиотажа вокруг этой темы уже нет, хотя лично мне удалось неплохо ее изучить, пообщавшись в свое время с самыми разными специалистами. Больше всего меня интересовала переработка пластика. Со стеклом, бумагой и металлом всё было понятно – данный вид вторсырья перерабатывался еще с советских времен. Что со всем этим делать, тоже вроде бы ясно. А вот как поступают с пластиком?
Оказалось, что пластик также переплавляется и идет затем в дело как любое нормальное сырье. Мне даже рассказали историю о том, как китайцы организовали в Новосибирске пункты приема пластиковых бутылок, насобирав их целый вагон для отправки в Китай. Я был в восторге от этой новости, поскольку появилась надежда на то, что в скором времени проклятая синтетика, которой сегодня завалены не только мусорные контейнеры, но также леса и поля, навсегда исчезнет с наших глаз, как это однажды произошло у нас с металлическим ломом.
К сожалению, этого почему-то не случилось. Странно, не так ли?
И ведь речь идет не только о нашей стране – речь идет обо всем мире! Так, по сообщениям New research, если не принять срочных и эффективных мер по утилизации отходов из пластика, то к 2040 году их количество, попадающее в океан, увеличится чуть ли не в три раза – с 11 миллионов до 29 миллионов тонн! Отчего же, спрашивается, пластик не перерабатывают, если он давно рассматривается как прекрасное вторсырье? К чему все эти рассказы про баржи с отходами, про вагоны с пластиковыми бутылками? Если хорошее решение проблемы давно найдено, то как тогда быть с этим смертельно опасным накоплением синтетических отходов в океане? Впечатление такое, что их переработкой занимаются далеко не везде. Во всяком случае, страны, производящие миллионы тонн пластиковой тары и упаковки, не особо спешат использовать ее вторично. А ведь речь сейчас идет о развитых странах, таких, например, как США. Выходит, что переработка пластика - не такое уж заманчивое и прибыльное дело, как нам объясняли. Так ли это?
Совсем недавно перед американцами раскрылась шокирующая правда, в которую не всем захотелось поверить – уж слишком хорошо и оптимистично выглядела картинка, где известные компании обращают синтетическую упаковку во вторичное сырье, спасая планету от мусора. А как обстояли дела на самом деле? О реальном положении дел в сентябре этого года рассказали на сайте NPR (National Public Radio). Как сообщается в публикации, всю эту синтетику банально свозили на мусорные полигоны, при этом внушая населению, будто в стране успешно налажена переработка пластика. Вначале, как отмечается в статье, мусор сплавляли в Китай (вспомним баржи). Затем, когда китайцы закрыли двери, компании-«переработчики» просто начали зарывать его в землю.
Прежде чем осуждать обман, выявим для себя объективную сторону проблемы. Ведь далеко неспроста история стала развиваться по такому неприглядному сценарию. Возможно, на то были серьезные причины.
Обращу внимание на один показательный момент. Как подчеркивается в статье, американская общественность (так же, как и российская) находилась в плену ложного тезиса относительно вопросов переработки, видя в ней некое золотое дно. Дескать, переработка пластика сулит хорошую прибыль. Такие же упоительные картинки рисовали в свое время и жителям Новосибирска. Среди наших общественников до сих пор встречаются убежденные сторонники переработки мусора как «прибыльного» дела. Но точно так же обстоят дела и в США. Тамошние общественники противоположную точку зрения воспринимали как ересь, осаждая любого специалиста, посмевшего заявить им о том, что на практике переработка не сулит тех барышей, на которые многие уповают в теории.
На самом деле пластик в качестве вторсырья никогда не обладал ценностью, утверждается в статье. Но главное – об этом прекрасно знали производители, в число которых входят известные нефтегазовые компании. Да, они прекрасно это знали, но тщательно скрывали правду, при этом тратя миллионы долларов на то, чтобы убедить американское общество в обратном. Грубо говоря, за большие деньги публике «втюхали» идею, неспособную привести к ожидаемому практическому результату. Для чего это делалось, понять не сложно – для того чтобы и дальше наращивать выпуск пластика, зарабатывая на нем сотни миллиардов. А ради успокоения «экологически сознательных» граждан им постарались внушить мысль, будто дело поправимо, поскольку пластик якобы без труда и с прибылью перерабатывается как вторсырье. Хотя специалисты высказывали на этот счет серьезные сомнения еще в 1970-х годах.
Короче, у производителей пластика был свой резон в создании обмана: если синтетику можно безболезненно и экономически выгодно утилизировать, значит, нет причин переживать за экологию. И общественность, действительно, успокаивалась, не испытывая большой тревоги из-за массового производства пластиковой упаковки.
С технической точки зрения проблема выглядит следующим образом. Собрать пластик для вторичного использования особого труда не составляет. Проблема коренится в самой переработке. Дело в том, что материал деградирует с каждым повторным использованием. Поэтому вы не сможете использовать его повторно более одного, в крайнем случае – более двух раз. То есть накопление отходов будет происходить все равно. При этом «вторичный» пластик, будучи ХУЖЕ по качеству, окажется ДОРОЖЕ нового, более качественного пластика, произведенного непосредственно из нефти и газа. То есть никакой золотой жилы переработка не обещает. Наоборот, здесь возникают затраты экономически нецелесообразные. Именно поэтому компаниям-производителям пришлось «путать следы», переключая внимание экологических активистов на иллюзорные «достижения» в делах утилизации отходов.
Тем временем, как отмечается в статье, осуществлялись солидные инвестиции в технологии переработки, как бы призванные показать инновационный способ решения проблемы. Но на самом деле проблема не решалась, поскольку переработке подвергалось не более 10% производимого пластика. Остальное свозилось на полигоны или утекало в океан. Однако общественность пребывала в блаженном неведении, поскольку, начиная с 1990-х годов, на ее головы обрушился поток рекламных сюжетов, создавший у граждан иллюзию технологического прорыва в делах переработки синтетических отходов. Показательно, что эта дорогостоящая рекламная компания оплачивалась такими известными производителями синтетики, как Exxon, Chevron, Dow, DuPont. Обывателю уже в течение многих лет с восторгом рассказывают о величайших успехах в деле создания нового продукта из вторсырья, тогда как в реальности это самое «вторсырье» массово закапывалось на мусорных полигонах или сжигалось.
Конечно, какая-то часть пластика перерабатывалась, особенно в рамках широко разрекламированных проектов. Но все они оказались нежизнеспособными в том смысле, что больше были похожи на обычную кампанейщину, чем на экономически обоснованный стартап, способный породить новое направление в современной индустрии. Разумеется, у нас нет права мазать это дело черной краской, тем более что в нем участвовали искренние энтузиасты, положившие много сил на отработку соответствующих технологий и создание инфраструктуры. Но их опыт лишний раз подтвердил отсутствие экономической целесообразности в таких проектах. Если и был здесь хоть какой-то практический смысл, то он как раз в том и заключался, чтобы избавиться от всяких иллюзий на этот счет. Например, выяснилось, что разные сорта пластика (а их - превеликое множество) невозможно переплавлять вместе. Иными словами, обычная сортировка на уровне сбора мусора, применяемая сейчас в странах ЕС, результата не дает. Необходимо сортировать по химическому составу пластика. А как такой профессиональный вопрос поручить обычным людям? Короче говоря, указанные проекты преподнесли хороший урок их инициаторам, но не показали пути эффективного решения проблемы.
А тем временем нефтяные гиганты инвестируют миллиарды долларов в новые предприятия по производству пластика… Как бы мы ни болели за экологию, экономическая целесообразность диктует именно такой вариант развития ситуации, особенно в условиях снижения спроса на моторное топливо.
Мы затронули эту тему как раз для того, чтобы избавить от иллюзий наше общество. До сих пор в Новосибирской области гуляет тема переработки мусора как магистрального пути решения проблемы твердых коммунальных отходов. Нам опять предлагают простые решения в виде строительства новых предприятий по разбору мусора. Дескать, это же «Клондайк», а значит, никакого обременения для нас не будет, поскольку дело способно-де развиваться на коммерческом интересе. Но если принять во внимание американский опыт, то нас точно так же, как и американцев, пытаются держать за простачков, поскольку лично мне сложно представить, что простачки находятся во властных кабинетах.
Константин Шабанов