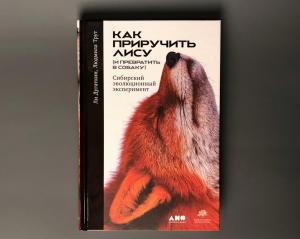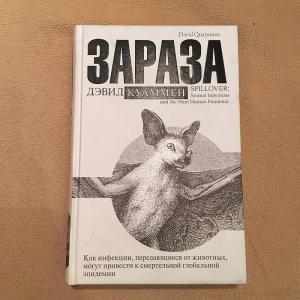Каждые два года энтомолог, доктор биологических наук, профессор Алтайского госуниверситета Роман Яковлев информирует о новых открытиях. В совместной с научно-образовательным центром «Алтай» рубрике «Беседы с учеными» Роман Викторович рассказал о новых видах бабочек, строении их генеративной системы, о любимом писателе Джеральде Даррелле.
Научный успех
- Много энтомологов в мире?
- Много. Есть огромное количество специалистов, которые занимаются сельскохозяйственной, лесной энтомологией. Борются с вредителями, разводят энтомофагов. А вот тех, кто занимается фундаментальной наукой, меньше. В Советском союзе были великие энтомологи – ленинградцы Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский (погиб в блокаду в 1942 году), Изяслав Моисеевич Кержнер, Олег Леонидович Крыжановский и другие.
- Писатель-эмигрант Владимир Набоков любитель или профессионал?
- Серьезный ученый, автор прекрасных работ по дневным бабочкам Северной Америки. Его статьи до сих пор цитируют.
- Что создает статус крупного ученого?
- Публикации.
- Я думал, новые открытые виды.
- Мне повезло с семейством бабочек. В северной Евразии есть группы, которые изучены прекрасно. Там новых видов практически не найдешь. Очень хорошо изучены стрекозы и прямокрылые (кузнечики, саранчовые). В Советском союзе были школы, где профессора имели возможность путешествовать, отправлять по своей тематике аспирантов в экспедиции, получать данные от иностранных учеников из Афганистана, Кореи, Вьетнама. По этой причине сложно в определенных семействах сказать новое слово.
Моя группа древоточцев (крупные ночные бабочки – прим.ред.) оставалась малоизученной. Скорее всего это связано с тем, что большинство из них живут в тропиках, а советская школа не имела возможность полноценно работать там. В фауне Советского союза это семейство представлено довольно бедно, кроме самых южных регионов Закавказья и Средней Азии. Описания новых видов не является самой важной задачей – гораздо интереснее, сложнее и важнее статьи о закономерностях формирования фаун, распределения биологических объектов в горных странах или на островах. Конечно, важны работы по вредителям – у меня такой опыт был совместно с энтомологами из Израиля, Индии и Индонезии.
- Всегда считал, что научный успех энтомолога зависит от выбора экзотической территории. Ты объездил половину мира, поднимался на горные вершины на Памире, в Монголии и в Андах. С этим связан первый научный успех?
- Первые открытия были в Монголии. Эта страна хорошо изучена (14 томов «Насекомые Монголии» по 800 страниц каждый опубликовано советскими энтомологами). Но и в ней есть неисследованные уголки. Мы прицельно работали в юго-западной джунгарской части. И там нашли представителей среднеазиатской, китайской фауны. Обнаружили неописанных эндемиков. И страна стала моим первым серьезным научным успехом. Потом много дали работы по Африке, Латинской Америке, конечно.
- Какие квадраты на карте остались незакрытыми?
- С точки зрения экспедиций как преподавателю университета хотелось бы посетить Мадагаскар, Австралию, Индонезию. Это горячие точки биоразнообразия. В Палеарктике для меня очень интересны локации Средней Азии (Таджикистан, Узбекистан, Туркмения). Очень интересна для меня Сахара, но там сейчас везде неспокойно, кроме Туниса и Марокко, пожалуй.
Вторая группа поездок – это командировки в музеи. Ключевые депозитарии в Европе, Японии, странах бывшего СССР я уже посетил. Остались Соединенные штаты. К сожалению, из-за пандемии сорвались поездки в четыре энтомологических центра: в Вашингтон, Нью-Йорк, Питсбург и Чикаго.
 - В твоем списке нет тропической Африки. Уже всю освоил?
- В твоем списке нет тропической Африки. Уже всю освоил?
- Был в трех больших африканских поездках, в которых мы посетили шесть стран южного сектора от ЮАР и севернее по материку. В перспективе Гана, Камерун, Нигерия. Конечно, хотелось бы поработать в Конго. Огромная страна с минимальным антропогенным воздействием. Дорог нет – передвижения только по реке или по воздуху. Все пространство покрывает зеленая сельва.
- Африка опасна?
- Она полна инфекций и не приспособлена для цивилизованного белого человека. Жара и влажность. И воюют. Сложности есть. Был два раза в Зимбабве, где полицейские очень рады белым, так как можно разобрать их багаж и машину до молекул, но 5 долларов чаще всего решают все вопросы.
Багаж энтомолога
- Что в международных экспедициях формирует багаж энтомолога?
- Помимо личных вещей, необходимы разные типы светоловушек: лампы, диоды, ультрафиолетовые излучатели, ловушки, экраны, патроны, провода, пинцеты, ватные матрасики, конверты.
- И чемодан аккумуляторов?
- Обычно помогают генераторы. В дальних странах арендуем, берем у партнеров, при автомобильной коммуникации везем с собой. Часто можно найти и стационарные источники питания.
- А вывозишь экземпляры в чем?
- Вентилируемые плоские картонные коробки. В тропиках обязательно обрабатываем от муравьев мелком «Машенька». Очень помогает.
Вертолет Леонардо да Винчи
- В 2020 году ваш научный коллектив принял решение назвать новые виды чешуекрылых именами великих русских людей.
- Идея возникла давно. Крупный коллекционер Виктор Синяев предложил эту идею. Сам собирает материал в крайне экзотических местах земного шара: Колумбия, Гондурас, Перу, Венесуэла, Боливия, Чили. Он обнаружил множество неописанных форм и видов. И коль мы русские обрабатываем этот материал, есть смысл назвать бабочек именами наших соотечественников. Один мой коллега опубликовал статью с новыми именами художников-реалистов Шишкина, Репина, Перова. В моей статье описаны 17 новых видов, названных в честь русских литераторов: Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Станюковича, Булгакова, Ахматовой и других.
- Сложная задача соотнести внешний вид человека и насекомого. Бабочка Салтыкова-Щедрина астеничная и бородатая?
- Внешний вид не учитывался. Большинство видов выглядит не ярко. Просто появилось большое количество материала, которое не имело аналогов в немецких, аргентинских, французских, британских музейных коллекциях. И 17 бабочек из Латинской Америки теперь носят имена русских писателей и поэтов.
- 400 видов открыты тобой. Ловишь бабочку, видишь, что она неизвестна тебе, проверяешь по мировым коллекциям наличие этого вида. Не находишь аналога, описываешь, называешь и вводишь в мировой энтомологический контекст публикацией. А чем отличаются новые виды визуально?
- Чаще всего есть ряд внешних отличий. Но самое главное – это морфологическое строение. У всех растений и животных важнейшим маркером являются половые органы. Ботаники не собирают растения без цветка. Цветок как генеративный орган несет признаки.
Та же ситуация с беспозвоночными животными. Есть гениталии, которые не вписываются в привычную схему. Здесь больше работают инженерные метафоры. При огромном разнообразии видов природа распорядилась так, что органы самки и самца подходят друг к другу как ключ к замку. Самец при всем желании не может копулировать с самкой другого вида. Внешность похожая, феромоны работают, а акта не получается – не подходит ключ к замку. Все попытки неудачны. Бывают немыслимые сложные структуры – шипы, выросты.
Я студентам устраивал тест – показывал фотографии гениталий бабочек и просил назвать что это. Были разные версии, но самая яркая – перед нами модель вертолета Леонардо да Винчи. В человеческой логике это ни на что не похоже.
Цифровой каталог
- Какие задачи ставишь в ближайшие годы?
- Задача ближайшего десятилетия сделать каталог мировой фауны по древоточцам.
- Цифровые технологии помогают?
- Сейчас формируются банки данных по всему миру. В канадском университете города Гуэлф началась эта работа. Один из перспективных проектов «Штрих-код жизни». Уместна аналогия с биометрическими данными. Определенный фрагмент ДНК единственен в своем роде и по нему можно маркировать тот или иной вид. В России этой тематикой сейчас занимаются Зоологический институт Российской академии наук в Санкт-Петербурге, Институт проблем эволюции имени Северцева в Москве, Институт систематики и экологии животных в Новосибирске, есть центры во Владивостоке, Красноярске.
Мы тоже вносим скромную лепту. Научный мир идет вперед в этом направлении - авторитетные зоологические журналы не принимают статей без генетических изысканий.
- Интерес к энтомологии как маятник. Где он сейчас завис?
- Сейчас происходит бум в любительской энтомологии, так как интернет дает для этого все необходимое. Когда я в детстве начинал заниматься этой наукой, было, может, быть 2-3 книги и все. Совершенно непонятна была и технология обработки – ни булавок, ни коробок.
- В этом году ты планируешь провести публичную лекцию о Джеральде Даррелле. Чем он интересен?
- Яркий озорной слог. Путешествия, экзотические страны. Для интересующегося биологией советского подростка Даррелл формировал недостижимый образ мечты. В прошлом году я побывал в Аргентине в провинции Жужуй. Смотрел глазами писателя на тех же туканов, броненосцев, на других животных джунглей. Поразительно, эти книги раньше доставались как сокровища, а сейчас доступны, но совершенно не востребованы молодежью. Я студентов-биологов спрашиваю: «Кто читал Даррела» - всего одна рука из группы. А для нас он был иконой.
Научный «подлесок»
- Сколько у тебя аспирантов?
- Четверо и трудятся они очень хорошо. С одним из аспирантов Александром Фомичевым мы прошли испытания в иракском Курдистане, когда нас приняли за шпионов и посадили в тюрьму. Два аспиранта занимаются своими темами и мой авторитет над ними не довлеет. Все они очень квалифицированные и заинтересованные молодые люди и уже внесли очень серьезный вклад в науку. У меня никакого сомнения, что во многом они обойдут своего научного руководителя.
- Студенты-биологи практики проходят?
- Да, но сейчас все очень цивилизовано. Есть базы учебных практик с домиками, электричеством. Испытания и романтика ушли. Европейские университеты везут своих студентов в Африку, в экзотические страны. Мне бы хотелось, чтобы студенты АГУ изучали фауну Камчатки, например, на практике. Или Сахалина, Чукотки, Северного Кавказа, Приморского края. Везде есть заповедники, которые с удовольствием примут начинающих специалистов.
- Сколько студентов-биологов с курса уходят в энтомологию?
- Не более одного человека. Больше и не нужно. Профессия штучная и трудоустроиться будет сложно. Нужны те, кто с детства болеют биологией и читают того же Даррелла.
Автор: Сергей Мансков
Фото: Роман Яковлев