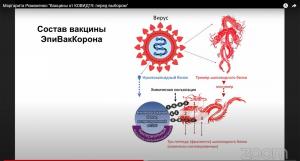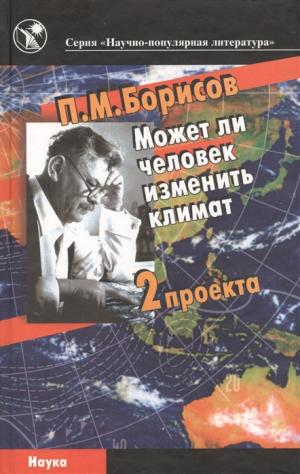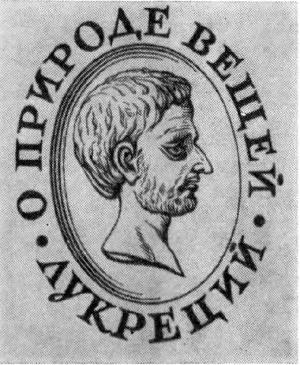Виноградное лето 2020
«Год сложный и противоречивый» - примерно так я охарактеризовал бы сезон 2020 года с позиции садовода-любителя, и особенно – с позиции сибирского виноградаря. Первое, что способно войти в историю погодных аномалий нашего региона – это необычайно жаркая весна. Не просто теплая, а именно жаркая. С конца апреля практически ни одного возвратного заморозка. Май, похоже, побил все температурные рекорды, в итоге возникло ощущение, будто мы из апреля сразу «прыгнули» в июль. Лето же, в свое очередь, выдалось «средним». Июнь оказался дождливым, июль и август – более-менее, но в то же время – ничего выдающегося. Сентябрь оказался нормальным, хотя и капризным, переменчивым. Однако заморозки (что для виноградарей особенно важно) случились в самые последние дни, при этом не везде. Октябрь выдался более капризным, но для наших краев он не является таким уже значимым.
Для сибирских виноградарей начало сезона сопровождалось приятным сюрпризом. Поскольку зима была относительно теплой и довольно снежной, лоза перезимовала без всяких проблем. Весна же оказалась на редкость дружной. Причем, тепло нарастало так стремительно, что даже в открытом грунте пробуждение глазков пришлось на конец апреля. Благодаря хорошей перезимовке, почки распустились максимально. Мало того, сказалось и прошлогоднее жаркое лето, и теплая осень, поскольку закладка нового урожая прошла весьма успешно. Даже на некоторых двухлетних (то есть совсем молодых) кустах образовались соцветия, и можно было получить первые сигнальные грозди.
В принципе, по части созревания ягод лично я не стал бы переоценивать условия нынешнего сезона, поскольку лето и осень выглядели контрастно по отношению к весне. В то же время раннее пробуждение глазков и практически полное отсутствие возвратных заморозков позволили продлить вегетационный период с конца апреля до конца сентября. В сумме (даже без страховки с помощью парниковой пленки) мы получили в этом году как минимум 150 дней вегетации! Для нашего региона, что ни говори, это очень и очень здорово. Напомню, что сроки вегетации ранних сортов винограда (которые в основном у нас и культивируются) укладываются в диапазон 115 – 125 дней. Сверхранние сорта и того меньше – 105 – 110 дней. А если нам удается растянуть этот срок до пяти месяцев, то перед нами открываются перспективы выращивания средних и даже среднепоздних сортов. Конечно, к концу сезона у нас происходит заметное падение напряжения тепла. Однако закрытый грунт решает эту проблему. Например, использование пленочных теплиц или малогабаритных пленочных укрытий позволит – при грамотно отработанной агротехнике - серьезно расширить ассортимент.
 В этом плане особо показателен для нас опыт крестьянско-фермерского хозяйства «Сад Шубиной», расположенного недалеко от Новосибирска. Напомню, что в этом хозяйстве различные сорта винограда выращиваются как в закрытом грунте (большие пленочные теплицы), так и в открытом грунте. Причем, для открытого грунта здесь сознательно не используют временного пленочного укрытия – как раз для упрощения агротехники. В теплице (о чем мы неоднократно писали) испытывается несколько среднепоздних и поздних сортов, включая знаменитую европейскую винную классику. В открытом грунте испытываются ранние устойчивые сорта.
В этом плане особо показателен для нас опыт крестьянско-фермерского хозяйства «Сад Шубиной», расположенного недалеко от Новосибирска. Напомню, что в этом хозяйстве различные сорта винограда выращиваются как в закрытом грунте (большие пленочные теплицы), так и в открытом грунте. Причем, для открытого грунта здесь сознательно не используют временного пленочного укрытия – как раз для упрощения агротехники. В теплице (о чем мы неоднократно писали) испытывается несколько среднепоздних и поздних сортов, включая знаменитую европейскую винную классику. В открытом грунте испытываются ранние устойчивые сорта.
В 2020 году, по словам главы хозяйства Людмилы Шубиной, виноград в теплицах «вышел на старт» 10 - 15 апреля. Это очень рано даже по меркам российских причерноморских виноградников. Мало того, благодаря активному нарастанию в наших краях продолжительности дня цветение может запросто начаться раньше, чем на Кубани! Что касается тепла, то его в больших теплицах достаточно для того, чтобы «набрать» необходимую сумму активных температур для вызревания поздних сортов. Еще несколько лет назад подобные выкладки были исключительно умозрительными. Однако сегодня они подтверждаются на практике.
Ранее мы писали о том, что первые сигнальные грозди Каберне Совиньон вызрели в теплицах КФХ «Сад Шубиной» к концу сентября. В этом году первый урожай дал и сорт Саперави. Оба сорта поспели почти одновременно – примерно в середине сентября. При этом Саперави показал более высокую силу роста и урожайность. В общем-то, отмеченные сортовые характеристики четко совпадают с тем, как они описаны в энциклопедиях. Сахаристость на указанный период оказалась невысокой – в диапазоне 16–18 процентов. Этого маловато для получения высококачественного вина. Однако надо участь, что на юге нашей страны эти сорта убирают в октябре. По сути, сбор необходимо было проводить тремя неделями позже, как минимум. Однако, как пояснила Людмила Шубина, из-за высокой активности ос в хозяйстве решили подстраховаться и сняли урожай заблаговременно. Поэтому испытатели думают теперь над решением еще одной задачи – спасения винограда от крылатых хищников. «Если осы попали на виноградник, ущерба не миновать», - заметила Людмила Шубина. Хотя для «толстокожего» Каберне Совиньон, возможно, осы угрозы не представляют.
В любом случае полученные результаты не могут не радовать. Как я уже сказал, в большой теплице есть возможность (если мы не будем принимать во внимание нашествие вредных насекомых) выращивать поздние сорта, растягивая вегетацию до самого октября. Учитывая, что пробуждение глазков здесь начинается в середине апреля, у нас в распоряжении будет как минимум 160-165 дней, чего вполне нормально для указанных сортов, которые даже для Кубани являются однозначно поздними. Кстати, в Бордо многие десятилетия Каберне Совиньон убирали в первой декаде октября с сахаристостью 17-19% (в последнее время эти сроки оттягивают). То есть наш сибирский результат почти приблизился к показаниям Бордо. Думаю, что при соблюдении некоторых условий мы в состоянии получить более серьезные кондиции по сахару. Но в любом случае этот опыт показывает, что тепловые ресурсы Западной Сибири недооценены. Из чего это следует? Из того, что сортам Каберне Совиньон и Саперави для созревания требуется как минимум 3200-3400 градусов активных температур. Это означает, что в теплице указанная норма достигается уже в середине сентября, хотя до этого считалась, что неотапливаемые теплицы в наших краях обеспечат вам максимум 3000 градусов, да и то с трудом. В общем, полученный опыт заставляет нас многое что переосмыслить.
Как мы понимаем, работа с поздними сортами – удел энтузиастов. Для тех же, кто не собирается обременять себя такими затратами, есть более простой путь: выращивать ранние устойчивые сорта в открытом грунте. Этот опыт также себя оправдал. В этом году, отмечает Людмила Николаевна, сорт Зилга в открытом грунте выдал самые высокие кондиции по сахару – 22– 23 процента. Это очень хорошо. Я бы сказал – стопроцентно «южный» результат! Отмечу, что Зилга имеет «изабелльную» ноту в аромате, и этот тон не считается классическим. Однако ранних сортов теперь достаточно много, и среди них есть и такие, которые способны удовлетворить запросы даже самых притязательных ценителей классики. Так что впереди нас ждут на этом поприще очень интересные испытания, благодаря чему (мы очень надеемся) любой сибирский дачник и правда может ощутить себя «как на Юге».
Хотелось бы, конечно, чтобы такие практики были поддержаны нашей наукой. К сожалению, ученые не уделяют этому внимания, поскольку официально считается, что виноградарство в Сибири хозяйственного значения не имеет, а на любителей наука как бы «не работает». Однако не стоит забывать, что немалую долю плодоовощной продукции в наших краях производят всё те же любители, внося весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Виноград также входит в этот список. А в случае оптимизации агротехники виноградарство в наших краях могло бы стать совершенно нормальным делом, именно как «на Юге».
Олег Носков
- Подробнее о Виноградное лето 2020
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии