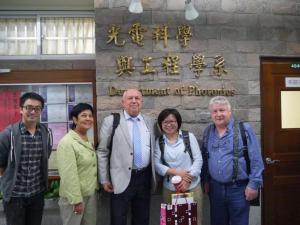Кадровый вопрос
Не только Ленин считал, что «кадры решают все». Это понимает любой мало-мальски грамотный руководитель. А печальный пример бердского мэра-коммуниста Потапова доказывает, что в современных условиях кадровые ошибки легко могут привести мэра «от оппозиции» на скамью подсудимых. Очевидно, что в мэрии города назрела необходимость серьезной ротации кадров. Между тем, «скамейка запасных» у КПРФ не такая уж и длинная. Так что Анатолию Локтю придется привлекать в свою команду людей, не связанных напрямую с его родной партией. И, весьма вероятно – вообще, не имеющих отношения к оппозиционному лагерю.
Еще одно основание для такой кадровой политики – обязательства, которые новоиспеченный мэр брал на себя в обмен на поддержку во время выборов. Ведь что бы ни говорил сейчас Анатолий Евгеньевич, очевидно, что его победу обеспечили не только собственные ресурсы коммунистов.
Первые шаги в этом направлении, кстати, уже делаются. Практически решен вопрос, что первым замом Локтя будет Андрей Ксензов. А известный либеральными взглядами Иван Стариков претендует на пост представителя Новосибирска в Москве. Окончательно же степень кадровых изменений в мэрии станет ясна после инаугурации, в мае.
Общественный транспорт
 Здесь ситуация не проще, чем с кадрами. С одной стороны, накануне выборов политик-коммунист говорил о необходимости снижения тарифов на проезд. А свои обещания надо держать. С другой, коммерческие перевозчики уверяют, что при таких расценках они не в состоянии обеспечить качественное оказание услуг населению. А муниципальный транспорт вообще находится в полуразрушенном состоянии. МУП «Горэлектротранспорт» вообще оказался на грани банкротства и его имущество пошло с молотка за бесценок. Правда, депутаты Александр Люлько и Ренат Сулейманов считают, что банкротство было вызвано искусственно, а сделка по продаже имущества МУПа очень походила на коррупционную схему. Но сколько с этим будут (если будут вообще) разбираться правоохранительные органы и удастся ли вернуть утерянное имущество – большой вопрос. А обеспечить работу общественного транспорта надо уже сейчас.
Здесь ситуация не проще, чем с кадрами. С одной стороны, накануне выборов политик-коммунист говорил о необходимости снижения тарифов на проезд. А свои обещания надо держать. С другой, коммерческие перевозчики уверяют, что при таких расценках они не в состоянии обеспечить качественное оказание услуг населению. А муниципальный транспорт вообще находится в полуразрушенном состоянии. МУП «Горэлектротранспорт» вообще оказался на грани банкротства и его имущество пошло с молотка за бесценок. Правда, депутаты Александр Люлько и Ренат Сулейманов считают, что банкротство было вызвано искусственно, а сделка по продаже имущества МУПа очень походила на коррупционную схему. Но сколько с этим будут (если будут вообще) разбираться правоохранительные органы и удастся ли вернуть утерянное имущество – большой вопрос. А обеспечить работу общественного транспорта надо уже сейчас.
Здесь перед мэром опять возникает несколько альтернатив. Можно, вместо системных изменений, пытаться «латать дыры», для чего, вероятно, придется влезать в долги с непредсказуемыми последствиями. Если это произойдет, то о снижении тарифа на проезд придется забыть.
А можно, как это популярно сейчас говорить – попробовать «срезать угол», найти нестандартный вариант решения. Тем более, что среди новосибирских ученых и конструкторов есть те, кто занимается как раз новыми технологиями в области транспорта. А общественники давно пытаются убедить наших чиновников использовать позитивный опыт зарубежных мегаполисов.
Кстати, на следующей неделе в ИТАР-ТАСС пройдет круглый стол, посвященный как раз новым технологиям транспорта. Он станет своего рода подготовкой к более масштабному обсуждению этой же темы на всероссийском форуме «Технопром-2014», который пройдет в Новосибирске в июне.
И если на этих мероприятиях мы увидим представителей мэрии, то можно надеяться на то, что команда Локтя выберет второй путь.
Коммунальная катастрофа
 Многие эксперты уверенно говорят: наш город оказался на пороге техногенной катастрофы в области ЖКХ. Это же подтверждается и постоянным ростом аварий на городских коммуникациях. А снегопады, весенние оттепели и летние ливни для нашей изношенной «коммуналки» из особенностей климата Западной Сибири превратились в стихийные бедствия с непредсказуемыми последствиями.
Многие эксперты уверенно говорят: наш город оказался на пороге техногенной катастрофы в области ЖКХ. Это же подтверждается и постоянным ростом аварий на городских коммуникациях. А снегопады, весенние оттепели и летние ливни для нашей изношенной «коммуналки» из особенностей климата Западной Сибири превратились в стихийные бедствия с непредсказуемыми последствиями.
Попытка решить эти вопросы за счет населения (повысив платежи) приводит только к росту неплательщиков и связанных с ними конфликтных ситуаций. Причем, что интересно – прибыль извлекают естественные монополисты, в меньшей степени – управляющие компании, а мэрии остается головная боль в виде роста социальной напряженности.
Есть ли в распоряжении мэра-коммуниста рычаги влияния на ситуацию. Их несколько. И пусть каждый в отдельности не способен стать решающим фактором, в совокупности они могут сыграть свою роль. Во-первых, это один из спонсоров новосибирской КПРФ, депутат Госдумы от этой партии Александр Абалаков. Входящая в его бизнес-структуру управляющая компания контролирует по ряду оценок, до четверти жилого фонда города. Еще несколько крупных игроков на этом рынке также в ходе выборов демонстрировали, что их проигрыш Знаткова не расстроит. То есть, почва для успешных переговоров со многими управляющими компаниями есть. О чем договариваться? Опять же это зависит от того, насколько серьезно Локоть настроен на перемены. Можно, например, договориться о временном «замораживании» некоторых расценок (те, что устанавливают УК), чтобы коммунисты могли это использовать как козырь на грядущих выборах депутатов. Правда, такой подход эффективен лишь в краткосрочной перспективе. А потом обернется лишь ухудшением ситуации (ведь коммунальщикам надо будет возместить «недополученную» прибыль).
Гораздо полезнее для города могла бы стать совместная программа по внедрению современных энергосберегающих технологий. Институты СО РАН стали бы источником технологий, заводы – изготовителями продукции, МУПы и УК – операторами, а мэр, используя свои связи на федеральном уровне – «добытчиком» дотаций, инвестиций или, на крайний случай, кредитов для реализации этой программы.
Понятно, что такой подход потребует массу усилий, а политические дивиденды принесет только через несколько лет. Но это уже вопрос приоритетов – что на самом деле важнее для Локтя и его команды: победить на выборах или изменить жизнь в городе к лучшему.
Вместо заключения
На самом деле, продолжать этот список можно было бы еще долго. Проблем в Новосибирске за годы работы «крепких хозяйственников-единоросов» накопилось, как говориться, выше крыши. И почти везде перед новым мэром будет стоять непростой выбор: погнаться за сиюминутной политической выгодой, а там «хоть трава не расти», или влезть в трудный процесс исправления ситуации (используя научно-промышленный потенциал города и любую возможность привлечения средств из федерального центра).
Второй путь сопряжен с большими рисками, но именно он позволит Локтю стать одним из тех градоначальников, о которых горожане будут вспоминать с благодарностью.
И хватит ли у него сил вступить на него – это и есть, пожалуй, главный из вызовов, которые стоят сегодня перед новоизбранным мэром.