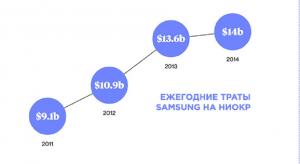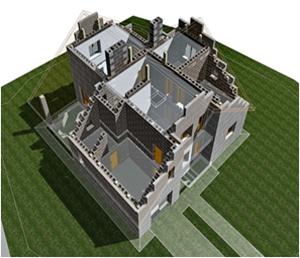Как разрушить ведущие научные институты? Как ликвидировать национальную интеллигенцию? Есть ли польза от реформы Академии наук? Проблемы российской науки «Деньги» обсудили с Александром Кулешовым — академиком РАН, директором Института проблем передачи информации, одним из создателей комиссии общественного контроля в сфере науки.
Реформа РАН идет почти два года. С вашей точки зрения, в каком состоянии она находится сейчас? Что в происходящем не устраивает академическое сообщество?
— В первое время все происходило как в известном анекдоте: пролетая мимо 18-го этажа, отбил эсэмэску, что пока все идет неплохо. Действительно, пару лет негатива не было. Я бы даже сказал, были элементы позитива. Хотя количество бумаг, безусловно, увеличилось, но жалобы на это я считаю не очень разумными, потому что в правильно организованном институте бюрократическими делами должны заниматься специально обученные люди, это не должно спускаться на уровень научных сотрудников. У нас, например, это абсолютно экранировано. У этих людей выросла нагрузка, кого-то пришлось дополнительно взять, но это не очень большая проблема. Зато Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) отсудило у Москвы одно наше здание и, кажется, отобьет второе.
То есть вашему институту стало даже лучше?
— Мы жили уже, можно сказать, на полном пределе, потому что надо было платить Москве за аренду здания, и плата каждый год повышалась. Это старая история: при передаче имущества в 1991 году несколько десятков зданий в пределах Садового кольца, включая наше, не были отписаны Академии наук. Неизвестно, по какой причине, но РАН в свое время запрещала нам судиться. В схожем положении довольно много академических институтов — я таких зданий знаю по крайней мере двадцать. Но сейчас произошел прецедент — думаю, дальше все пойдет автоматически. Мы просто были первыми, поскольку давно к этому готовились, и я сразу же обратился к руководителю ФАНО Михаилу Котюкову — все отсудили. Тут даже говорить нечего: управлять имуществом ФАНО, несомненно, умеет лучше, чем люди, которые этим занимались в РАН. В этом плане все шло довольно разумно.
А в чем ситуация стала меняться к худшему?
— В последние месяцы появились проекты документов, принадлежащих Министерству образования и науки, ФАНО и, кстати, аппарату РАН (он ничем не лучше всех остальных), в которых присутствуют очень существенные угрозы. И угроза номер один заключается в том, что значительную часть и так урезаемого финансирования пытаются перевести на конкурсную основу. Для гвардейских институтов — как Институт теоретической физики имени Ландау, Математический институт имени Стеклова и наш институт, из которого вышли три филдсовских лауреата и еще один лауреат премии Абеля (в этом случае лавры мы разделяем с Институтом Ландау),— разделение фиксированного бюджетного финансирования на фиксированное и конкурсное абсолютно неприемлемо.
Но, собственно, почему?
— Смотрите: вот я директор. У меня есть фиксированный бюджет и есть фиксированное количество людей. Никакого резерва у меня нет, на самом деле нет, и фиксированные деньги, которые институт получает, я должен отдать на зарплату. Естественно, институт получает гранты, контракты и так далее, но вот эта фиксированная часть теперь уменьшается, скажем, на 30%. Это значит, что я должен сделать? Я должен 30% людей уволить. Или — другой вариант — вызвать их к себе и сказать: «Слушай, напиши заявление на 0,7 ставки. Я тебе твои деньги все равно заплачу так или иначе, но заявление ты напиши». Как вы думаете, что мне ответит, к примеру, мой зам, который до 1 января был деканом математического факультета Колумбийского университета? Я думаю, он мне скажет: «Не нужно ничего, спасибо, я пошел».
У нас в институте нет ни одного человека, который бы не работал за рубежом. Если молодой парень хочет сделать здесь карьеру, он обязательно должен пройти стажировку за рубежом. Это мое требование. Полгода, год стажировки — минимум. Потому что российская наука со страшной скоростью провинциализируется, и, чтобы этот процесс остановить, необходимо общение. Невозможно просто читать статьи и считать, что ты находишься на мировом уровне. Общение нужно. Без этого все умрет.
Поэтому для ведущих институтов требование часть бюджетного финансирования перевести на конкурсную основу действительно катастрофа. Его выполнить нельзя. Единственное, что я смогу сделать в этой ситуации,— написать заявление об увольнении. Это совершенно объективно. Ничего другого.
Вы говорите только о ведущих институтах. Считаете, что тем, кто похуже, в этой ситуации будет проще?
— Плохие институты, которых в Академии наук на самом деле достаточно много, наверное, останутся. Если человек знает, что не нужен он никому ни в какой загранице, а здесь ему платят мелкие деньги, то какая ему разница, будет у него полная ставка или 0,7? Для него это все равно как пенсия... Это решение приведет к разрушению именно лучшей части.
Да, гранты — это существенная часть организации научного труда. Но грантовое финансирование проявляется и должно проявляться не в размере ставки. А в том, что я могу набрать людей на эти гранты, купить новое оборудование, ездить на конференции и так далее. В этом смысле гранты — очень большое преимущество. У нас же, как всегда, берется западная система и имплементируются чисто внешние признаки. Так, как кажется, что она работает, а не как она устроена на самом деле.
Финансовыми проблемами угрозы не исчерпываются?
— Вторая угроза — так называемая реструктуризация. Поймите меня правильно, я ни в коем случае не призываю сохранить Академию наук в том виде, в каком она была. Потому что, когда говорят, что мы до сих пор делаем атомную бомбу, это правда: структура академии соответствует структуре науки 1960-х годов. Но структурные преобразования всегда делаются под четко сформулированные государственные задачи, а не наоборот.
Невозможно производить преобразования, если не сформулирована их цель. А у нас государство не сформулировало цель, зачем это нужно. Ну не может быть у государства цели выйти на уровень 2,44% мирового уровня публикаций! Или цели сократить количество юридических лиц. Хотя их сейчас около 900. И я руководителей ФАНО отлично понимаю: как можно руководить такой толпой? Хорошо бы, чтобы их стало 100–150. Но кроме удобства руководителей ФАНО в чем смысл этого действия с государственной точки зрения?
Решили, например: а давайте мы все региональные организации объединим в региональные научные центры. В одном центре почвоведы, математики, лингвисты... Наша комиссия (общественного контроля в сфере науки.— «Деньги») посылала делегацию в Кабардино-Балкарию, в Нальчик. Там попытались слить пять или шесть институтов: прикладной математики и автоматизации, экологии, этнологии и так далее. Мелкие структуры.
Да, конечно, по формальным критериям институт прикладной математики в Нальчике не может конкурировать со Стекловкой или с нами. Но ребята там неглупые. Окончившие мехмат. Они возятся с местной молодежью, школьниками, студентами. Они выполняют огромную социальную функцию — как говорится, меньше джигитов в горы уйдет. Они формируют тот тончайший слой национальной интеллигенции, благодаря которому что-то еще удерживается. Да не лезьте вы в это!
Или решили: давайте сделаем федеральные научные центры. Ну вот пять уже сделали, сейчас сделают еще семь. А в чем смысл? Что, там какая-то синергия возникнет от того, что объединили три института, которые находятся в трех разных городах, между ними два-три часа лета? Единственное оправдание — что вроде бы бухгалтеров будет меньше. Но и это на самом деле ерунда, потому что никто не будет ездить из Самары в Москву только для того, чтоб подписать командировку.
На данном этапе это просто бессмыслица, бюрократические игры в песочнице. Но очень часто бессмыслица, к сожалению, вырождается во что-то по-настоящему злое — как из родинки появляется меланома. Я все веду к одному: сначала сформулируй цель, для которой тебе нужен тот или иной предмет или тот или иной инструмент, а потом уже под эту цель его оптимизируй.
А что делать, если делать не атомную бомбу?
— Ну если XX век был веком физики, то XXI, видимо, век life science. Но если вы посмотрите на простой показатель — публикационную активность, вы увидите, что у нас по физике элементарных частиц 8,45% мировой публикационной активности, почти 6% по математике, 6% с лишним в ядерных технологиях. А по клинической медицине — ноль. По биологии — тоже не блестяще. И если мы сегодня решим перекинуть средства на life science за счет, например, физики, мы и физику угробим, и биологию не построим.
Знаете, когда Иран хотел сделать ядерную программу, с чего они начинали? С международных олимпиад. Вдруг иранцы начали получать призы на международных физических и математических олимпиадах. Это железный признак совершенно. А сейчас, вы знаете, китайцы бессменные чемпионы.
Начинать надо со школьников, с высшего образования. И через какое-то время образуется критическая масса, которая превращается в открытия, в технологии, в то, что полезно людям. Но невозможно сказать: давайте переведем 70% финансирования в life science — в науки о мозге, генетику, биологию, клиническую медицину. Нет, то есть деньги, конечно, освоят. Но они уйдут как вода в песок, потому что нет инфраструктуры, способной их принять. Ее нужно выращивать поколениями.
Это очень небыстрая история. Но как сейчас быть с теми 900 научными организациями, о которых вы говорите?
— Мы предлагали в качестве первого шага провести оценку эффективности научных организаций. И принципиально все с нашим предложением были согласны. ФАНО создало рабочую группу с участием наших представителей, были сформированы документы, которыми экспертное сообщество было довольно. А потом эти документы отложили в сторону, пять месяцев прошло — ничего с места не сдвинулось, никакой оценки эффективности не происходит. Почему? Потому что в результате возникнет некое ранжирование — и у ФАНО будут связаны руки.
Вопросы были. Как быть, например, если провинциальные институты точно уступят московским или новосибирским? Но у нас было предложение: введите в качестве одного из критериев социальную значимость. Потому что понятно, что, какой бы ни был институт прикладной математики в Кабардино-Балкарии, его, наверное, не надо трогать. Есть документы, которые четко говорят, как провести эту оценку, которую нужно было сделать.
Любой здравомыслящий хозяин, придя в новую организацию, начинает с инвентаризации, чтобы понять, с чем он имеет дело. Но нет, никто ничего не проводит.
Предположим, инвентаризацию провели. Что дальше?
— Выделить людей, лаборатории, коллективы, которые могут заниматься фундаментальной наукой на международном уровне, довольно просто. Есть корпус экспертов, которые могут проводить такую экспертизу, есть зарубежная диаспора, которая с удовольствием примет в этом участие. Это легко. Если человека принимают на международных конференциях, если он публикуется в хороших журналах, значит, он может работать на современном международном уровне, надо просто дать ему возможность это делать. Не надо вмешиваться, не надо ему объяснять, что это несвоевременно, это не нужно для страны. По одной причине: мы не знаем, что окажется нужным завтра.
В науке невозможно предвидеть, что будет востребовано. Работы Эвариста Галуа, которого в 20 лет убили на дуэли, 100 лет не были востребованы; его современники, великие математики, говорили, что это чушь. А через 100 лет поняли, что он заложил основы совершенно новой математики и что криптография, которую нужно было создать, вся есть в работах Галуа. В Высшей школе КГБ даже пословица была: «Кто не знает Галуя, тот не знает… ничего». Прошу прощения.
Или, скажем, в начале 1960-х годов сделали отделение структурной и прикладной лингвистики в МГУ. Ну занимались там люди каким-то машинным переводом, получалось вроде не очень, но на них смотрели так: да ладно, пусть копаются... А потом оказалось, что это самые охраняемые технологии современного мира. Потому что для того, чтобы содержать системы, которые отслеживают интернет-переписку и телефонные переговоры, нужно уметь делать семантический анализ.
Поэтому, что касается фундаментальной науки, главный принцип — дать людям заниматься тем, чем они хотят и могут заниматься. Нам очень важно удержать критическую массу. Даже если завтра где-нибудь в Нигерии родится, не знаю, Максим Концевич (французский академик, но все еще сотрудник ИППИ, лауреат Филдсовской премии), он там не задержится, уедет, потому что там нет критической массы, там не с кем разговаривать. У нас она еще есть, пусть и в минимальном объеме. Если мы ее разрушим — а мы сейчас на грани этого события,— потребуются многие поколения, чтобы ее воссоздать. Это вот первая часть — то, что касается фундаментальной науки.
Вторая часть, видимо, прикладная?
— Вторая часть должна быть сформирована под воздействием государственных потребностей. Государство должно уметь формулировать задачи. Как они формулируются в США. У них была программа по геному. В 2013 году Обама объявил, что программа закончена и каждый вложенный в нее доллар принес экономике США $140. Открыли программу по картированию мозга. Думаю, через пять-шесть лет будут очевидные результаты. Они уже есть, причем первые результаты получили военные. Например, благодаря транскраниальной магнитной стимуляции им удалось в 2,5 раза быстрее готовить снайперов. Совершенно практический результат.
То есть американское государство формулирует направления. К примеру: мне нужны исследования мозга. Ты можешь этим не заниматься — твое дело, но, если ты будешь этим заниматься, получишь вот это и вот то. Такой подход срабатывает — не столько из-за денег, сколько потому, что ученые нуждаются в признании. Социальный статус — великий рычаг, при его правильном использовании многого можно добиться.
А у нас государство не формулирует, что ему нужно от науки. И главное, исчез приводной механизм для удовлетворения этих запросов. В Советском Союзе формулировали госзадания, назначали ответственных, выделяли ресурсы — не хочу сказать, что это был очень хороший механизм, но он существовал. Сейчас никакого механизма нет. А потребности у государства есть в огромном количестве. У нас перестают работать антибиотики. У нас ракеты падают. Самый старый спутник GPS работает 25 лет, а у нас спутники отстреливают и отстреливают, а они все выходят из строя и выходят — а почему? Устойчивость против радиации — это мультидисциплинарная задача, это задача государственная. А ее никто не может сформулировать. У нас государство не связывает факт того, что падают ракеты, и то, что наука плохо финансируется. Для него это некоррелированные факты. И мы не в состоянии доказать свою необходимость для нашего государства. Вот это действительно радикальная проблема.