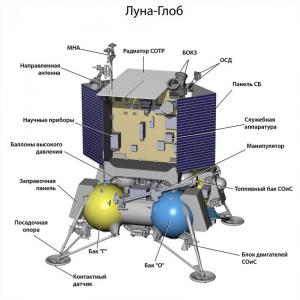Как делается топливо для АЭС на НЗКХ
На Новосибирском заводе химконцентратов побывали редакторы научно-образовательного проекта ТАСС «Чердак» и узнали, почему производство ядерного топлива очень безопасно, как лазер заменил на предприятии женщин и чем отличаются тепловыделяющие сборки российских АЭС от зарубежных.
Новосибирский завод химконцентратов (НЗКХ) — одно из предприятий промышленного района Новосибирска, построенных сразу после войны, в 1948 году. Рядом с ним — ТЭЦ, завод имени Чкалова и другие предприятия. На самом деле, на этой площадке планировалось производить автомобили — дизельные грузовики грузоподъемностью четыре тонны. Но для производства большого количества топливных блоков уран-графитовых реакторов, которые тогда выпускали на заводе в подмосковной Электростали, нужно было построить еще одно предприятие в другой части страны. Выбор пал на новосибирскую площадку: здесь были почти построены пять производственных корпусов и здание котельной, было удобное транспортное сообщение. После решения о передаче строительной площадки под строительство химико-металлургического завода большую часть оборудования отправили в Минск. С тех пор на НЗХК освоено производство основного вида топлива для АЭС — диоксида урана. Сейчас на заводе работают более полутора тысяч человек.
Химический процесс производства диоксида урана, строго говоря, основан на единственной химической реакции — синтезе диоксида урана (UO2) из гексафторида урана (UF6). Дальше полученный порошок прессуют и герметизируют диоксид урана в циркониевых трубках. Чтобы гексафторид стал топливом, то есть оксидом, уран нужно восстановить (перевести из степени окисления +6 в +4) и одновременно провести гидролиз вещества для получения оксида из фторида.
UF6 + H2 +2H2O = UO2+ 6HF
Кроме основного продукта — UO2 — есть и побочный — плавиковая кислота (раствор фтороводорода). Помните, в кабинетах химии все реагенты хранились в стеклянных банках и колбах, и только плавиковая кислота — в пластиковой? Это единственное из широко распространенных веществ, растворяющее стекло (оно же — ценный реагент для химического синтеза). До 2010 года диоксид урана производили «мокрым» методом, после — на новой линии методом ВПГ (восстановительного пирогидролиза). «Мокрые» методы предполагают наличие воды в реакционной среде, то есть использование растворов, тогда как более эффективные «сухие» обходятся водородом и водяным паром.
Собственно, здесь можно было бы закончить рассказ о безопасности завода. И диоксид урана, и его гексафторид — порошки, совершенно стабильные и невзрывоопасные. Единственный риск — радиоактивность, но на заводе работы с этими материалами ведутся со строжайшим соблюдением норм по радиационной охране труда. «Выйти» за территорию завода порошкам вряд ли удастся — все выходы оборудованы точными датчиками радиации. Так что жители города могут быть спокойны: никакого тайного реактора, о котором корреспондент «Чердака» с удивлением услышал от новосибирцев, на заводе нет, а радиационный фон там не выше, чем на покрытых гранитом набережных Невы в Санкт-Петербурге.
Плавиковая кислота — другой случай, это и правда очень химически активное вещество (шутка ли — стекло растворить), но объемы ее производства (побочного) на заводе совсем не велики, итоговая концентрация не выше 20%, поэтому даже при какой-либо нештатной ситуации она разве что повредит оборудование в цехе. Жителям города, опять же, от нее никакого вреда: скорее плохи ТЭЦ на угле, производящие далеко разносимую ветром мельчайшую угольную пыль (вред некоторых наноразмерных объектов для легких — отдельная история).
Но вернемся в цех, чтобы понять, как получаются красивые топливные стержни для АЭС, знакомые многим по наглядным макетам в Политехническом музее.
Сначала полученный порошок механически обрабатывают: дробят, просеивают, растирают. На выходе получается гранулят, в котором частички гораздо более однородны по размеру. Это важно: в топливных элементах не должно быть дефектов плотности, чтобы не допустить локального повышения концентрации радиоактивного компонента и, соответственно, локального перегрева этого участка.
Полученный гранулят смешивают с пластификатором — веществом, которое помогает оксиду металла слипнуться в таблетки. Так на производственном жаргоне почему-то называются элементарные блоки топливного элемента, больше похожие на маленькие цилиндры размером с фалангу женского мизинца.
Смесь подают на пресс, который и прессует гранулы диоксида урана в таблетки. Следующая стадия — печь спекания. Это главное «горнило» для топлива: там в течение 17 часов при температуре до 1770 градусов по Цельсию таблетки проходят спекание и отжиг. Этот технический термин означает своеобразную очистку температурой (да еще и в чистой восстановительной среде водорода): из таблеток уходят все оставшиеся летучие примеси, а именно вода, остатки фтора, добавленный ранее пластификатор. Одновременно совершенствуется структура таблеток: при высокой температуре атомы в сверхпрочных кристаллических решетках твердых веществ становятся чуть более подвижными, что позволяет им встать на «правильные» места, исправив дефекты кристаллической решетки.
После спекания таблетки идут на шлифовку: совершенной должна быть не только их внутренняя структура, но и поверхность, а размер — строго заданным и одинаковым. Почему таблетки оказываются разными, если их прессуют в одинаковых формах? Дело в том, что они немного изменяются при отжиге, когда «лишние» фрагменты из внутренней структуры как раз и «выходят» на поверхность. От них и избавляются шлифовкой. После этого этапа диаметр таблеток составляет 7,56-7,57 мм, то есть друг от друга отличаться они могут не более чем на 0,01 мм. Интересная деталь — контроль качества. Раньше эту работу выполняли вручную женщины (практика показала, что мужчины не могут долго аккуратно выполнять однообразную работу — отвлекаются и пытаются внести творческое зерно, которое здесь совсем не нужно), но с 2014 года их заменила автоматическая линия, которая контролирует внешний вид и измеряет размеры таблеток с помощью лазера.
Результат автоматизации ощутимый: если в 2011 году на трех линиях выпускалось 600 тонн таблеток в год, то в 2014-м — 450 тонн всего на одной линии. Теперь завод может производить до 1000 тонн топлива в год и ждет заказов (от кого, поговорим чуть позже). Аккуратным женщинам предложили работу в других подразделениях предприятия.
Сейчас наша линия полностью обеспечивает контроль качества: бракованная продукция через нее не проходит. Другой вопрос, что ошибочно отбраковывается и часть хороших образцов, и мы работаем над этим, но главное для нас всегда — не допустить брака, — технолог цеха Евгений Мильчаков.
Впрочем, и отбракованные таблетки не теряются: в специальной печи их окисляют до закиси-окиси урана, а потом пускают в цикл производства порошка топлива.
Собственно, с этого момента топливо готово — осталось его хорошо упаковать. Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы) формируются, когда таблетки герметично завариваются в полые трубки из циркония (их производят в Удмуртии, в городе Глазове). Процесс сварки проходит в среде инертного газа, ТВЭЛы контролируют так же тщательно, как и сами таблетки: они должны быть идеальными, чтобы в реакторе не возникало локальных перегревов. Полученные тепловыделяющие элементы собирают в шестигранные пучки — это готовые ТВС (тепловыделяющая сборка, так называют пучок ТВЭЛов) для реакторов типа ВВЭР-1000. Сегодня поставки этого топлива ведутся в Россию, Украину, Болгарию, Иран, Индию и Китай.
Шестигранные ТВС (реакторы имеют круглое поперечное сечение) используются на реакторах российского производства — это примерно 16% реакторов в мире. Западные реакторы используют четырехгранные ТВС, и их на НЗХК тоже научились делать. Сейчас опытная партия стоит на испытаниях на реакторе в Швеции, и, если пробный период пройдет успешно (а на это есть все основания), новосибирское ядерное топливо станет востребованным на гораздо более широком рынке. Тогда наверняка пригодится потенциал в 1000 тонн таблеток в год.
- Подробнее о Как делается топливо для АЭС на НЗКХ
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии