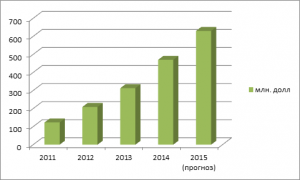Академгородок вобрал в себя все прогрессивные градостроительные решения своего времени
Интервью с доцентом кафедры архитектуры гражданских зданий НГАХА, директором ООО «АПМ – 2002» Игорем Поповским
– Игорь Викторович, насколько Академгородок – с градостроительной точки зрения - является уникальным местом для нашей страны?
– Начну с того, что Академгородок является ярким примером градостроительной школы советского модернизма 1960-х годов. Я говорю сейчас не о зданиях. Речь идёт о планировочной схеме, в соответствии с которой он был создан. В принципе, все тогдашние передовые теории пешеходного и «зеленого», выработанные, например, архитектором Ле Корбюзье, или принципы организации новых микрорайонов в Англии, Скандинавии – всё это так или иначе воплотилось в планировочной схеме Академгородка. Суть его каркаса – транспортное полукольцо, соединенное с транзитной внешней скоростной магистралью, и две хорды, парадные проспекты ул. Ильича и Университетский, находящиеся внутри, – всё это позволяло практично связать городок транспортом, мотивируя при этом пешеходное движение как здоровый образ жизни. Это было классикой современного модернистского города, которую мы изучали в советской градостроительной школе. Даже когда мы студентами выполняли проект малого города, то делали его в учебной задаче на месте Академгородка и примерно такие же планировочные схемы. Модернистские подходы здесь налицо: четко прозонирована функция и пространство – места работы, селитьба, сфера обслуживания. Очень высокий уровень благоустройства, в пересчете на одного жителя значительно превышающий ту норму, которая была тогда определена для других городов. Сюда же включалась и соответствующая альтернативная инфраструктура, например, велодорожки, возможность организованного пешеходного движения.
Сама структура центра Академгородка также соответствует этим модернистским решениям. Линейный, неплотный ряд общественных зданий с визуальным акцентом в перспективе Домом ученых. Торговый центр был выполнен достаточно неординарно и продвинуто, с учетом рельефа и новейших материалов. Даже само название – «Торговый центр» - свидетельствует о другом подходе. То есть здесь был не ГУМ, не ЦУМ, не универмаг, а именно «Торговый центр». Это всё соответствовало наработкам мировой модернистской школы, оказавшей влияние и на советскую градостроительную школу. Недаром же проект Торгового центра выставлялся в Канаде.
Единственное, но очень существенное отличие Академгородка заключалось в отсутствии высотных объектов, которые включались, например, в систему Корбюзье. Это придавало сомаштабность застройки окружающему лесному ландшафту. Но это заслуга не только проектировщиков. Просто Никита Хрущев запретил строительство высотных объектов на этой территории, поскольку Академгородок был все-таки объектом военно-промышленного комплекса, работал на нашу оборонку.
И это предполагало большое количество «зеленки», которая, как считал Хрущев, может во время войны послужить защитой от ядерного удара. Но три девятиэтажные точки все-таки обозначили центр Академгородка. Это также классика советской эпохи 60-х.
– Почему, на Ваш взгляд, государство допустило здесь все эти модернистские «вольности», в которых четко просматривалось западное влияние?
– Понимаете, вся эта эпоха модернизма была связана с определенным мировоззрением, с определенной этикой, где наука стояла на первом месте – естествознание, ядерная физика, исследования космоса. Этой атмосферой жил тогда весь мир. Человечество вступил в век ядерных технологий. Всё это привело, скажем так, к «переформатирования» всего мировоззрения. И ученые серьезно повысили свой авторитет в глазах общества. Они стали своего рода элитой во всех ведущих странах мира, и прежде всего в Советском Союзе. Ученый в то время был окутан ореолом романтики.И Академгородок совершенно нормально вписывался в эту тенденцию, идя по пути мирового прогрессивного развития. Соответственно, все подходы организации среды должны были быть прогрессивными. Природа, зеленый каркас, скрывавший модернистскую аскетичность и экономическую прагматичность построек, среду, особо благоприятную для проживания ученых. Организованное таким образом пространство создавало хорошие условия для работы, для отдыха, для занятий преподавательской деятельностью.
– Как долго ли могла сохраняться такая идиллия?
– Парадокс здесь заключается в том, что ученые создали для себя некий «монастырь науки». Но в то же время надо понимать, что ученые по природе своей – люди социальные, которые должны жить в культурном городском пространстве. Правда, благодаря культурным связям, они все-таки не пребывали в полной изоляции, не отрывались от остальной страны. Но им, видимо, этого не хватало, тем более что инфраструктура постепенно отстала в развитии, и в итоге стали происходить миграционные процессы – из Академгородка в город, из города – в Академгородок. Особенно эти процессы усилились, когда стала меняться демографическая ситуация. Дело в том, что не все дети ученых стали заниматься наукой. Один из родителей тоже часто занят другой деятельностью. С другой стороны, определенная часть молодых ученых, работающих в Академгородке, получила жилье в городе или где-нибудь поблизости, в Бердске, например. Кто-то уезжал в Москву, кто-то получал жилье не по ведомственному принципу.
И вот этот миграционный поток стал усиливаться с каждым годом. В результате город стал, образно говоря, понемногу «поедать» Академгородок. Этот процесс начал особенно ускоряться, когда жилье стало продаваться. И сегодня житель Академгородка тревожится именно этими проблемами, включая, например, проблему пробок, проблему транспортного сообщения с городом.
Для жителей Академгородка эти проблемы становятся актуальными по указанной причине. Поскольку на работу в Академгородок стало приезжать много людей из города. И такой же поток идет в обратном направлении, когда жители Академгородка едут на работу в город.
В общем, вот эта ситуация некой «ученой слободки», когда жилье находится рядом с местом работы, постепенно вымывается. Всё это ведет к тому, что Академгородок рискует превратиться в банальный спальный район. Поэтому планомерного развития территории науки, предполагавшего постоянное воспроизводство ученых в соответствии с планами академика Лаврентьева, может, по указанным причинам, не произойти.
– На Ваш взгляд, такой итог неизбежен, или как-то можно поменять тенденцию?
– Знаете, идеальный вариант, когда ученые пользуются служебным жильем, сдаваемым в аренду. То есть если работаешь в Академгородке, то ты там и живешь – в служебной квартире. Тогда возможно, мы бы не столкнулись с той ситуацией, которую я описал. Но у нас этого как раз не произошло: жилье было приватизировано, и несмотря на то, что сами дома находятся на федеральных землях СО РАН, квартиры не обязательно принадлежат сотрудникам институтов. Собственники жилья запросто могут свои квартиры продать – продать кому угодно, включая тех, кто к науке не имеет ни малейшего отношения.
Отсюда возникает необходимость в каких-то аттракторах, призванных активизировать работу ученых. Такую роль, например, может играть существующий технопарк. Можно попытаться создать еще один технопарк, связанный с развитием «зеленых» технологий, с альтернативной энергетикой. Можно осуществлять строительство или реконструкцию домов как раз по «зеленым» технологиям, сделать более сильный акцент на экологии. Этим могли бы заняться отдельные институты Академгородка, внедрив какие-то прогрессивные разработки.
Однако, замечу, что сделать это очень трудно, поскольку подобная стратегия потребует согласованности и осмысленности действий практически всех жителей Академгородка. Пока такой осмысленности нет. И не потому, что Академгородок как-то плохой в этом плане. А потому, что пока еще общество само по себе не подошло к самостоятельному решению совместных проектов такого уровня. Городская среда, разумеется, имеет сложную структуру. И потому разные социальные группы имеют различные представления о развитии, об организации своей жизни.
В этом смысле в Академгородке необходимо сделать так, чтобы конфликтные процессы переходили на партнерские платформы. Причем зачаток таких отношений уже здесь есть, и весьма позитивный. Намного лучше, чем в остальном Новосибирске.
– Можно ли улучшить качества среды с чисто градостроительной точки зрения, в соответствии с современными подходами?
– Я считаю, что в Академгородке это возможно. На мой взгляд, он должен быть выстроен на традиционных планировочных каркасах. На мой взгляд, развитие велодорожек является серьезным восстановлением этого каркаса, что связано, как мы понимаем, со здоровым образом жизни, с хорошей экологией. Создание пешеходных зон тоже дает серьезный плюс. Особенно если НГУ будет увеличивать количество учащихся, то всё это будет очень сильно востребовано. Людям нужны места для прогулок, для отдыха.
Кроме того, в Академгородке должна быть приведена в порядок социальная инфраструктура. Там, например, очень сильно не хватает спортивных объектов, перегружены школы. А такие объекты как школы и детские сады, исходя из нормативов, требуют достаточно больших территорий. То же самое касается и спортивных сооружений. Поэтому для решения этой проблемы придется использовать какие-то неординарные подходы, для того чтобы не вырубать лес и в то же время соответствовать новым нормативным требованиям.
Интервью записал Олег Носков
- Подробнее о Академгородок вобрал в себя все прогрессивные градостроительные решения своего времени
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии