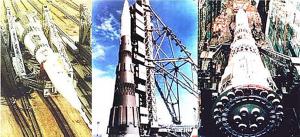На днях в новостях промелькнуло сообщение о смерти Юджина Сернана - последнего космонавта, побывавшего на поверхности Луны. Это и не удивительно – ведь те события, получившие в истории название «Лунная гонка» произошли полвека назад.
Начало ей положил президент США Джон Кеннеди своим выступлением перед Конгрессом 25 мая 1961 года, а финалом стал полет «Аполлона-17» в декабре 1972 года. В ходе этой миссии люди в шестой – и на сегодня последний – раз высадились на Луне, а руководил этой экспедицией как раз вышеупомянутый Сернан.
История «Лунной гонки» породила массу вопросов и даже теорию, согласно которой американцы вообще не высаживались на поверхность спутника Земли. На одни вопросы ответы давно известны, другие остаются спорными и сегодня.
К числу первых относятся причины возникновения соревнования как такового. Шла «холодная война», в которой обе стороны (СССР и Америка) отчаянно боролись за первенство в самых разных областях. И в освоении космоса Советский Союз, бесспорно, выигрывал: мы запустили первый спутник, первый космонавт тоже был наш – Юрий Гагарин. Американцам необходим был свой прорыв, и Кеннеди определил цель: первыми высадиться на другой планете, конкретно – на Луне.
Неправильно считать, что история полетов на Луну началась с выступления американского президента. Ей предшествовали масштабные программы по отправке к спутнику Земли беспилотных аппаратов. И если американская беспилотная программа исследования Луны «Пионер» терпела неудачу за неудачей, то советские лунные станции демонстрировали все новые успехи: зимой 1959 года аппарат «Луна-1» прошел в 6000 километрах от Луны; осенью того же 1959 года «Луна-2» достигла поверхности спутника; а спустя всего месяц станция «Луна-3» совершила первый облет спутника и сфотографировала обратную сторону Луны, всегда скрытую от глаз землян.
Для политиков обоих лагерей первенство в космосе становилось делом принципиальным. Никита Хрущев потребовал от Королева и его команды: «Луну американцам не отдавать». А еще раньше, в мае 1961 года, после триумфального полета Гагарина, на заседании Конгресса, конгрессмен Фултон, обращаясь к главе НАСА, заявил:
«Я считаю, что мы находимся в состоянии гонки, и я много раз говорил Вам, господин Уэбб: „Скажите, сколько вам нужно денег, и мы прямо здесь, в этом комитете выделим Вам требуемую сумму…" Я устал от того, что мы все время вторые после Советского Союза. Я хочу быть первым. Я считаю, что это хорошее, мирное соревнование. Я не вижу в нем ничего плохого… Понимаете ли вы, господа, что вы несете ответственность за то, как капиталистическая система выглядит в глазах остального мира с точки зрения ее эффективности и научного прогресса?».
Его коллеги были не менее прямолинейны.
«Лунная гонка» началась… А ведь ее могло и не быть, в конце 1980-х годов была рассекречена информация о том, что накануне советское и американское руководство вели переговоры о совместной программе исследования Луны. Это позволило бы в разы снизить затраты и вполне возможно привело бы к созданию на орбите (или поверхности Луны) пилотируемой исследовательской станции. Но (не в первый раз) научные и экономические резоны были принесены в жертву политическим интересам и амбициям.
 Первым этапом гонки стало создание специальных ракет-носителей, способных доставить экипажи и большие объемы груза до Луны. Успехи американского ракетостроения связаны в первую очередь с именем барона Вернера фон Брауна – создателя первых боевых баллистических ракет V-2 (Фау-2). В конце войны Браун в числе других немецких специалистов в сфере передовых военных технологий был вывезен в США. Спустя дюжину лет Браун возглавил Космический центр имени Джона Маршалла, преобразованный в 1960 году в Центр космических полётов НАСА. Он состоял из 30 отделов, всеми первоначально руководили немцы – бывшие коллеги Брауна по программе V-2. В результате их работы 1 февраля 1958 года состоялся первый успешный запуск ракеты «Юпитер-С», которая вывела на орбиту первый американский спутник «Эксплорер-1». Но венцом всей жизни Вернера фон Брауна стала его ракета «Сатурн-5», созданная для лунной программы «Аполлон».
Первым этапом гонки стало создание специальных ракет-носителей, способных доставить экипажи и большие объемы груза до Луны. Успехи американского ракетостроения связаны в первую очередь с именем барона Вернера фон Брауна – создателя первых боевых баллистических ракет V-2 (Фау-2). В конце войны Браун в числе других немецких специалистов в сфере передовых военных технологий был вывезен в США. Спустя дюжину лет Браун возглавил Космический центр имени Джона Маршалла, преобразованный в 1960 году в Центр космических полётов НАСА. Он состоял из 30 отделов, всеми первоначально руководили немцы – бывшие коллеги Брауна по программе V-2. В результате их работы 1 февраля 1958 года состоялся первый успешный запуск ракеты «Юпитер-С», которая вывела на орбиту первый американский спутник «Эксплорер-1». Но венцом всей жизни Вернера фон Брауна стала его ракета «Сатурн-5», созданная для лунной программы «Аполлон».
Эта ракета высотой 111 метров имела 5 двигателей 1-й ступени с тягой по 680 тонн на топливе жидкий кислород–керосин, 5 двигателей 2-й ступени с тягой по 90 тонн, и один двигатель 3-й ступени на топливе жидкий кислород–жидкий водород. Стартовый вес ракеты составлял около 3000 тонн, вес полезного груза, выводимого на орбиту Земли, около 130 тонн.
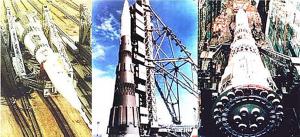 Советская Лунная программа базировалась на гигантской трехступенчатой ракете Н-1. В начале июля 1962 года 29 томов проекта этой ракеты легли на стол Президента АН СССР Мстислава Келдыша, а 24 сентября того же года по его заключению Постановлением Правительства СССР было предписано начать летные испытания ракеты Н-1 в 1965 году. Общая конструкция и рабочие чертежи ракеты разрабатывались в ОКБ-1 в подмосковных Подлипках (ныне город Королев), под руководством академика Сергея Королева, а двигатели для лунной ракеты разрабатывались в авиационном КБ генерала Николая Кузнецова в Самаре. В Самаре же, на заводе «Прогресс» производили и саму ракету.
Советская Лунная программа базировалась на гигантской трехступенчатой ракете Н-1. В начале июля 1962 года 29 томов проекта этой ракеты легли на стол Президента АН СССР Мстислава Келдыша, а 24 сентября того же года по его заключению Постановлением Правительства СССР было предписано начать летные испытания ракеты Н-1 в 1965 году. Общая конструкция и рабочие чертежи ракеты разрабатывались в ОКБ-1 в подмосковных Подлипках (ныне город Королев), под руководством академика Сергея Королева, а двигатели для лунной ракеты разрабатывались в авиационном КБ генерала Николая Кузнецова в Самаре. В Самаре же, на заводе «Прогресс» производили и саму ракету.
Ракета Н-1 имела высоту 110 метров с диаметром у основания 17 метров и общим стартовым весом почти 3000 тонн. Первая ступень ракеты включала 24 расположенных по кольцу двигателя и еще 6 двигателей внутри кольца с тягой по 150 тонн на топливе жидкий кислород–керосин, вторая ступень – 8, и третья – 4 двигателя, всего – 42 реактивных двигателя. Ракета Н-1 должна была вывести на орбиту вокруг Земли лунный модуль, включавший лунный орбитальный корабль с двумя космонавтами на борту на базе пилотируемого космического корабля «Союз» и лунный спускаемый корабль.
Вскоре после начала гонки руководство СССР определилось и с датой, когда ее надо было выиграть - планировалось отпраздновать 50-летие советской власти 7 ноября 1967 года на трибуне Мавзолея вместе с двумя советскими космонавтами, только что вернувшимися с Луны. Это, кстати, хорошо показывает – какое значение успехам космонавтики отводилось в деле пропаганды преимущества социалистического пути развития. Впрочем, американцы эту тему тоже не недооценивали. И все их космические проекты (включая «Джемини» - программу пилотируемых полетов на орбиту) теперь были подчинены одной цели: обеспечить первенство программы «Аполлон».
Поначалу, казалось, что успех будет на стороне советской космонавтики. Помимо собственно ракеты, высадка на Луну требовала решения двух сложнейших технических задач: маневрирование, расстыковка и стыковка модулей и многое другое. В этих направлениях лидировали наши конструкторы, но с каждым новым полетом (в рамках того же «Джемини») это отставание стремительно сокращалось.
К этому добавились неудачи, преследовавшие советскую ракету Н-1 на испытаниях. Причины во многом крылись в конструкции двигательного комплекса, состоявшего из большого числа ракетных двигателей сравнительно небольшой мощности. Проблем добавляла низкая надежность системы управления столь сложным комплексом, а главное – отсутствие опыта разработки и базы для стендовых испытаний ракетных реактивных двигателей в авиационном КБ Кузнецова. В результате сроки советской лунной программы постоянно срывались. Еще больше осложнила ситуацию смерть Сергея Королёва в 1966 году. В результате, ни один из испытательных пусков не закончился удачно, а поскольку уже на момент первого из них американцы совершили успешную высадку на Луне, то и программа вскоре оказалась свернутой. Советская Лунная ракета в космос так и не взлетела.
Что же произошло – стала ли Лунная гонка примером блестящего рывка американской космонавтики или наоборот – одним из самых больших провалов нашей – споры ведутся до сих пор. Скорее всего, имело место и то, и другое. Зам. Генерального конструктора НПО «Энергомаш» В. Рахманин писал по поводу провала проекта Н-1:
«За всю историю отечественного ракетостроения не было ни одного другого случая, чтобы первые четыре летных испытания новой ракеты подряд оканчивались аварийно и все – в период работы первой ступени. Казалось, что сама техника подает сигнал: пора уже и людям признать ошибочность проекта».
 Одной из главных причин этого стал конфликт внутри команды Королева. В Советском Союзе существовала только одна организация, способная справиться с разработкой сверхмощных и надежных двигателей для лунной ракеты – ОКБ-456 Валентина Глушко в подмосковных Химках (ныне – НПО «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко). Но Королёв и Глушко недолюбливали друг друга, и в итоге заказ на двигатели был передан КБ Кузнецова, которое не было готово к решению этой задачи. Завершение этой истории произошло в 1974 году, когда, став Генеральным конструктором бывшего королевского ОКБ-1, Валентин Глушко немедленно закрыл проект ракеты Н-1 вместе с провалившимся проектом советской экспедиции на Луну.
Одной из главных причин этого стал конфликт внутри команды Королева. В Советском Союзе существовала только одна организация, способная справиться с разработкой сверхмощных и надежных двигателей для лунной ракеты – ОКБ-456 Валентина Глушко в подмосковных Химках (ныне – НПО «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко). Но Королёв и Глушко недолюбливали друг друга, и в итоге заказ на двигатели был передан КБ Кузнецова, которое не было готово к решению этой задачи. Завершение этой истории произошло в 1974 году, когда, став Генеральным конструктором бывшего королевского ОКБ-1, Валентин Глушко немедленно закрыл проект ракеты Н-1 вместе с провалившимся проектом советской экспедиции на Луну.
Пока ОКБ-1 работало над новым носителем, под нужды лунной программы подгоняли «Протоны». Первые пять запусков лунных кораблей при помощи этих ракет сорвались. Шестой увенчался успехом – корабль «Союз-7К-Л1», позднее получивший имя «Зонд-4», вышел в космос. Последующие «Зонды 5-8» совершили облёты вокруг естественного спутника, впервые применив для изменения траектории гравитационный маневр. Правда, на этом положительные результаты миссий закончились – корабли даже не выходил на стационарную орбиту вокруг Луны и де-факто не получили никаких научных данных. Отправлять экспедицию на них сочли опасным (некоторые пуски по-прежнему проходили в аварийном режиме). Доработка «Протонов» не успела завершиться ни к 1968-му, ни к 1969-му году.
Сказалось и то, что в эти же годы значительные средства тратились на советскую программу пилотируемых полетов на орбиту, которая была фактически «автономной» от лунной программы.
 В США же к слаженной команде фон Брауна на старте программы «Аполлон» присоединился человек, ставший, по сути, ее настоящим «отцом» - Джеймс Уэбб (1906-1992) — глава НАСА в 1961-1968 гг. Именно ему удалось сосредоточить все ресурсы и усилия на решении одной задачи – пилотируемой экспедиции к Луне.
В США же к слаженной команде фон Брауна на старте программы «Аполлон» присоединился человек, ставший, по сути, ее настоящим «отцом» - Джеймс Уэбб (1906-1992) — глава НАСА в 1961-1968 гг. Именно ему удалось сосредоточить все ресурсы и усилия на решении одной задачи – пилотируемой экспедиции к Луне.
И, прежде всего, он устранил существовавшие барьеры на пути реализации проекта. Первая проблема агентства заключалась в конфликте двух групп: «ученых», персонифицировавшееся в Визнере, и «политиков», олицетворявшееся Линдоном Джонсоном, которые не могли найти общего языка по вопросу, кто должен возглавить НАСА? Ученые хотели видеть на этом посту человека с серьезной инженерной подготовкой, а Джонсон предпочел бы, чтоб агентством руководил человек, знающий, как договариваться с властью. В результате, под давлением Кеннеди, Уэбб был принят как компромиссная фигура.
Следующий вопрос, состоял в том, чтобы найти баланс между двумя программами НАСА — пилотируемой и научной. Уэбб четко обозначил свою позицию: только полеты людей в космос помогут Соединенным Штатам создать такой ракетно-космический потенциал, который в дальнейшем позволит им решать любые задачи в сфере космической деятельности. Следовательно, главная задача НАСА — доставить людей за пределы атмосферы и обеспечить там их жизнь и работу. Но чтобы успокоить ученых – назначил своим заместителем известного ученого Хью Драйдена.
Затем он продемонстрировал умение договариваться с властью – несколько раз добившись от Конгресса выделения дополнительного финансирования и отстояв независимость космических программ от Пентагона.
В итоге, не имея конфликтов внутри и ограничений в финансовой поддержки от власти, НАСА успешно продвигалось к воплощению своих планов. Разработка, изготовление и подготовка ракеты к испытательному запуску заняли примерно 4 года. Пик производственных усилий по изготовлению ракеты Сатурн-5 пришелся на 1966 год – тогда НАСА получила максимальное за всю ее историю финансирование. Всего американской промышленностью было изготовлено 15 ракет Сатурн-5, и 6 из них обеспечили успешную высадку 12 американских астронавтов на Луну. В отличие от советской лунной ракеты, Сатурну-5 сопутствовала удача – все запуски были достаточно успешными.
К декабрю 1968 года стало ясно, что американцы, наконец-то, догнали русских. Но в НАСА понимали, что сверхсекретная и непредсказуемая советская лунная программа может преподнести им любой сюрприз, как это уже бывало не раз. Перед новым директором НАСА Томасом Пэйном (сменившим Уэбба) стояла нелегкая дилемма – проводить ли дополнительные испытания или рискнуть и отправить экспедицию на Луну. США рискнули и победили.
21 декабря 1968 года стартовал «Аполлон-8». Три космонавта – Билл Андерс, Джим Ловелл и Фрэнк Борман – облетев Луну, благополучно вернулись на Землю. Дальше последовали новые старты. И, наконец, 20 июля 1969 года Нейл Армстронг, первым из людей шагнув на лунную поверхность, сказал свою знаменитую фразу: «Этот маленький шажок человека - великий шаг человечества».
Гонка была выиграна, после этого последовало еще несколько пилотируемых экспедиций, а в 1973 году программа «Аполлон» была свернута (прежде всего, из-за своей дороговизны). В приоритет выходили другие направления, тесно связанные с обороноспособностью. Для США приоритетной стала программа КК многоразового использования «Спейс Шаттл», для СССР – долговременных орбитальных станций… Так гонка вооружений на многие десятилетия заморозила освоение людьми Солнечной системы.
Но в завершение темы хотелось бы поднять еще два важных вопроса. Первый связан с популярной теорией о том, что американцы на Луне не высаживались (популярна она, правда, исключительно за пределами США, и, в первую очередь, в русскоязычном сегменте Интернета). При этом среди скептиков есть две точки зрения. Согласно одной, в рамках программы «Аполлон» вообще не производилось никаких космических полётов. Астронавты всё время оставались на Земле, а «лунные кадры» снимались в особой секретной лаборатории, созданной специалистами НАСА где-то в пустыне. Более умеренные скептики признают возможность осуществления американцами реальных облётов Луны, однако сами моменты высадки считают фальшивкой.
Разбирать подробно их аргументы нет смысла – они легко доступны в Сети. Вспомним только несколько очевидных фактов. Во-первых, столь грандиозная многолетняя мистификация потребовала бы участия многих тысяч людей, ученых, инженеров, экспертов… Обеспечить жёсткий контроль над такой массой людей и не допустить утечки информации не смогло бы самое тоталитарное государство. За примерами далеко ходить не надо: истинные возможности в освоении космоса Китаем и КНДР секретом для специалистов не являются.
Второй момент - астронавты всех шести экспедиций привезли на Землю в общей сложности 380 кг образцов лунных пород и лунной пыли (для сравнения: советские и американские автоматические экспедиции – всего 330 граммов, что доказывает гораздо более высокую эффективность пилотируемых полётов). Многие образцы стали доступны мировому сообществу.
Да и основные доказательства скептиков сосредоточены на экспедиции Армстронга, и не опровергают все шесть высадок в целом. Так что, на сегодня более убедительно выглядит признание результатов программы «Аполлон», а не ее отрицание (которое столь приятно самолюбию ряда ура-патриотов).
И последний важный для нас вопрос, касающийся «Лунной гонки» - когда человечество вернется на Луну, и какую роль в этом сыграет российская космическая отрасль.
Сроки «возвращения» на Луну назывались неоднократно и столь же неоднократно переносились. Джордж Буш-младший провозгласил задачу возвращения американцев на Луну до 2020 года и последующего полёта на Марс. Сегодня ясно, что к 2020 году задачу не решить, но и Буш давно покинул президентский пост. В прошлом году своими планами поделилось и российское руководство: вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал, что к 2030 году на Луне будет построена научная база. Но у экспертов слова Дмитрия Рогозина вызывают большое сомнение. Согласно принятой в 2016 году Федеральной космической программе, рассчитанной до 2025 года, в 2024 году только должна состояться отправка к спутнику Земли первого российского лунохода. А от лунохода до полноценно функционирующей космической базы очень длинный путь, который малореально пройти за пять лет.
Есть и проекты, которые выглядят откровенными фейками. В том же 2016 году о возможности создания украинской научной базы на поверхности Луны заявил экс-президент этой страны Леонид Кравчук. Учитывая, что его страна на сегодня фактически не располагает сколь-нибудь значимой космической отраслью, основные предприятия ее находятся на грани банкротства – не удивительно, что за пределами Украины новость никто в серьез не воспринял.
В целом же, подводя итог, приходится признать, что покойный Юджин Сернан еще на многие годы останется последним землянином, шагавшим по лунной поверхности.
Сергей Кольцов
 Позже со ссылкой на собственные воспоминания и рассказы математика его коллеги писали, что вместо бумаги, которой в лагере не хватало, Кошляков использовал фанеру, соскребая ранее написанное куском стекла. Расчеты он делал в бараке для доходяг: ученого не посылали на общие работы, так как он был истощен и страдал пеллагрой. В 1943-44 годах Кошляков написал две важных работы: «Исследование некоторых вопросов аналитической теории рационального и квадратичного поля» и «Исследование одного класса трансцендентных функций, определяемых обобщенным уравнением Римана». Последнюю работу ему, находясь в ГУЛАГе, удалось опубликовать.
Позже со ссылкой на собственные воспоминания и рассказы математика его коллеги писали, что вместо бумаги, которой в лагере не хватало, Кошляков использовал фанеру, соскребая ранее написанное куском стекла. Расчеты он делал в бараке для доходяг: ученого не посылали на общие работы, так как он был истощен и страдал пеллагрой. В 1943-44 годах Кошляков написал две важных работы: «Исследование некоторых вопросов аналитической теории рационального и квадратичного поля» и «Исследование одного класса трансцендентных функций, определяемых обобщенным уравнением Римана». Последнюю работу ему, находясь в ГУЛАГе, удалось опубликовать.
 Опасаясь репрессий как бывший офицер царской армии, Кондратюк уехал сначала на Кубань, затем на Урал и, наконец, в Сибирь. В 1927 году, работая на Алтае механиком на зернохранилищах, он предложил построить огромный элеватор на 13 тысяч тонн зерна. Проект был осуществлен и получил название «Мастодонт»: гигантская деревянная постройка в городе Камень-на-Оби была возведена без единого гвоздя и без чертежей — Кондратюк строил ее как русскую избу, только высотой эта изба была с семиэтажный дом.
Опасаясь репрессий как бывший офицер царской армии, Кондратюк уехал сначала на Кубань, затем на Урал и, наконец, в Сибирь. В 1927 году, работая на Алтае механиком на зернохранилищах, он предложил построить огромный элеватор на 13 тысяч тонн зерна. Проект был осуществлен и получил название «Мастодонт»: гигантская деревянная постройка в городе Камень-на-Оби была возведена без единого гвоздя и без чертежей — Кондратюк строил ее как русскую избу, только высотой эта изба была с семиэтажный дом.