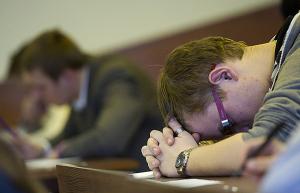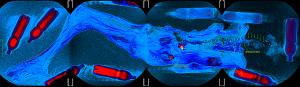"Работы хватит"
В марте СО РАН ждут тотальные выборы: практически полностью сменится руководство Сибирского отделения, в том числе и председатель. «Наука в Сибири» узнала у кандидатов на эту должность, как, по их мнению, следует развивать сибирскую науку в непростое для нее время. Сегодня о своих мыслях и планах рассказывает директор Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН академик Сергей Владимирович Алексеенко.
Справка. С.В. Алексеенко — академик РАН, директор Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН с 1997-го года, председатель Совета СО РАН по энергосбережению. Специалист в области теплофизики, гидродинамики, энергетики и энергосбережения. В прикладном плане основные усилия направлены на развитие теплофизических основ современных энергетических технологий, включая возобновляемые источники энергии. С 2004 г. — зав. кафедрой «Физики неравновесных процессов» НГУ. Член многих международных и национальных научных обществ, советов и фондов. Председатель Экспертного совета Академпарка. Главный редактор журнала «Теплофизика и Аэромеханика». Награжден золотым знаком «Достояние Сибири» в номинации «Наука и образование» (2003). Лауреат Премии Правительства РФ (2012) и Международной премии имени академика А.В. Лыкова (2014).
— Как бы Вы охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию, которая сложилась вокруг академической науки? Какие, на Ваш взгляд, могут быть пути решения?
— Совершенно очевидно, что главная проблема — это реформа Российской академии наук. Сейчас ситуация довольно неопределенная, поскольку, наверное, впервые за всю историю Академия в лице ее членов оказалась отделенной непосредственно от научных институтов, где выполняется вся исследовательская работа. Несмотря на различные меры, в итоге получилось: непонятно, кто за что отвечает. Поэтому в первую очередь, конечно, нужно налаживать отношения между РАН с ее отделениями и ФАНО России.
Здесь предлагаются совершенно разные подходы. Наиболее радикальный, который сейчас распространен среди немалой части ученых — переподчинение ФАНО Российской академии наук таким образом, чтобы оно занималось только хозяйственными и управленческими вопросами в составе РАН. То есть в какой-то мере это, с одной стороны, возврат к прошлой системе, с другой — четкое разделение обязанностей. Однако бороться можно долго и ни к чему в итоге не прийти. Поэтому, на мой взгляд, нужно в первую очередь заниматься проработкой наиболее оптимального варианта — совершенствовать регламент взаимоотношений между Академией наук и ФАНО. Прежде всего для того, чтобы резко сократить бюрократические процедуры, сейчас для руководителей институтов это самое неприятное. Мы все завалены бумагами и запросами, нужно делать целый набор разнообразных отчетов, многие требования даже технически трудно выполнить. Но самое главное, что нам нужно: чтобы было обязательное согласование с РАН любых вопросов, касающихся непосредственно научных исследований. Да, договоренность такая есть, но на практике это не работает в достаточной мере. Я думаю, сформировать приемлемые для обеих сторон регламенты взаимоотношений реально, но ими нужно заниматься непрерывно: садиться за стол переговоров и добиваться логического их завершения.
На самом деле, вопросов в области организации российской науки намного больше. Одна из главных проблем — научные центры. Всегда они были частью Академии, а сейчас принадлежат ФАНО, вследствие чего нет прямого взаимодействия с СО РАН. Более того, некоторые возглавляют не члены Академии, а доктора и кандидаты наук, и непонятно, на каком основании они будут подчиняться Сибирскому отделению, которое, как известно, после реформы представляет собой сообщество именно членов Академии.
Поэтому здесь тоже следует с учетом изменившихся условий практически заново формировать взаимосвязь, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным. Возможно, делать это нужно на уровне соглашений, которые будут подписаны со сторон Академии наук, ФАНО и самого центра.
— Вы сказали, что СО РАН на сегодняшний день — это сообщество членов Академии наук, со своими функциями и обязанностями. По какому вектору, на Ваш взгляд, должно идти развитие Сибирского отделения?
— Прежде всего, следует установить четкую координацию действий СО РАН и других региональных отделений — Уральского и Дальневосточного. Сейчас все действуют независимо друг от друга, но необходимы согласованные шаги, синергия усилий и определение роли каждого. Принципиально важно, чтобы мы приняли самое активное участие в реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, которая была принята в декабре указом Президента РФ. В ней ясно указано: страна должна идти по инновационному сценарию развития экономики, и главенствующая роль отводится именно науке. Это может стать звездным часом для Академии. Вне сомнений, она способна себя проявить, но для этого нужна консолидация усилий. Понятно, что проблемы у РАН не только организационные, среди них — совершенно недостаточное (да еще и сокращающееся) финансирование. Однако в этом плане мы должны не только просить или требовать денег, но и подсказывать, откуда их можно взять. А взять получится только тогда, когда экономика будет в надлежащем состоянии. Вывод прост и очевиден: необходимо принять самое активное участие в развитии экономики РФ на том уровне, на котором мы способны это сделать. Например, роль Сибири совершенно ясна, ведь большинство природных ресурсов располагается именно в нашем регионе: это уголь, гидроэнергия, лес, минералы, металлы, конечно, нефть и газ. Разумеется, здесь мы должны проявить инициативу: что развивать, как развивать, как перерабатывать, что производить, чтобы получать не просто сырье, а продукцию высокой добавочной стоимости, да еще и конкурентоспособную на внешнем рынке.
Если говорить непосредственно о научной деятельности, то нужно существенно повысить роль Объединенных ученых советов (ОУС) по наукам. В каждом ОУСе работает целый пул высококлассных экспертов, и, несомненно, они должны привлекаться для постановки исследовательских задач разного уровня.
Сибирское отделение способно успешно сформировать перечень научных и технологических приоритетов для своих научных центров с учетом специфики последних. У каждого из них имеются крупные заделы по проблемам, весьма актуальным и жизненно важным для соответствующих регионов, но требуется поддержка разных уровней и координация действий. В качестве примера можно привести такие программы как «Арктика», «Байкал», «Глубокая переработка угля». Еще более значимой и даже глобальной задачей видится реанимация и опережающее развитие программы «Сибирь», которая имеет общегосударственное значение и будет объединять вышеназванные программы в виде взаимосвязанных подпрограмм и блоков.
— А если говорить о развитии конкретно Новосибирского научного центра как самого крупного в системе СО РАН?
— Непростой вопрос. В Академгородке сейчас, по сути, троевластие: Сибирское отделение РАН, ФАНО с институтами, ему подчиненными, и администрация Советского района. Я считаю, нужно создавать совет директоров НИИ с определенными полномочиями — это будет тот орган, с которым сможет официально взаимодействовать СО РАН. Тогда все решения и предложения, формирующиеся в институтской, научной среде, будут передаваться в Сибирское отделение и наоборот. Это очень важно, особенно если учитывать то, что многие директора не являются членами Академии наук, а в руководстве СО РАН, в свою очередь, могут быть уже бывшие руководители, которые очень быстро забывают, что такое институт. Кроме того, следует поддерживать и как можно активнее развивать сотрудничество Сибирского отделения и Новосибирского государственного университета — друг без друга они существовать не могут. Не стоит забывать и о Технопарке Академгородка. Нам предопределено заниматься инновациями — соответственно, необходимы и как можно более тесные контакты с Академпарком.
Сейчас разрабатывается новая стратегия развития последнего с участием представителей властных структур, СО РАН, институтов и резидентов. Еще один способ взаимодействия внутри ННЦ — то, чему раньше было дано название ЦОИР — Центр образования, инноваций и разработок. По этому поводу было поручение Владимира Путина, которое до сих пор не выполнено.
Если возвратиться непосредственно к Академгородку, то в силу упомянутого троевластия я бы предложил создать Общественный совет, в который должны войти самые влиятельные люди. Очевидно, это будут председатели СО РАН и Совета директоров институтов, глава района, руководители ТУ ФАНО и Академпарка, ректор НГУ, депутаты по нашему округу, представители ряда других влиятельных структур. Тогда можно будет принимать согласованные меры по развитию ННЦ. В частности, необходимо создавать генеральный план развития Академгородка — о нем давно говорят, что-то уже делали, но по сути его не существует. Здесь работы хватит.
— Вы затронули вопрос инноваций….
— Больная тема. По сути, в РФ не существует инновационной инфраструктуры. У нас есть совершенно великолепные научные достижения, но они в большинстве своем фундаментальные. Конечно, СО РАН предлагает много и прикладных разработок, но если они не востребованы, то их как бы и не существует. А инновация только тогда инновация, когда есть выход на практику. Повторюсь, нам следует очень серьезно отнестись к упомянутой выше Стратегии научно-технологического развития России, где этот инновационный вектор предопределен. Чтобы РФ вошла в число мировых технологических лидеров, необходимо реализовывать полные инновационные и технологические циклы. Полный инновационный цикл — это наука, технологии, производство, рынок. Если хоть одного звена нет — в особенности, технологий — мы просто покупаем комплектующие, собираем готовый продукт и оказываемся зависимыми от внешних условий, что характерно для многих наших производств. То же самое касается технологического цикла: каждая конкретная технология должна воплощаться в конечный продукт, начиная с собственного сырья. Когда у вас нет, допустим, моносилана для производства солнечных элементов на кремнии, и вы приобретаете его за рубежом, это опять означает, что есть опасность остановки производства. Следовательно, нужны обе полноценные цепочки. К этому надо стремиться, и, в принципе, в России это реализуемо.
— Предлагаю вернуться к институтам. Перед ними, как, впрочем, и перед каждым научным сотрудником, сейчас стоят проблемы оценки результативности их деятельности. Здесь до сих пор идет много споров по поводу критериев…
— Если говорить о конкретном ученом, то оценить его важнее, я бы сказал, для самого института, где он работает, так как у каждой организации есть своя специализация. Тем не менее, основные критерии известны и логичны. Для исследователя это, прежде всего, все-таки публикации. Причем не в проходных, а в престижных рейтинговых журналах. Далее, обязательно — участие в конференциях, опять же, в крупных российских или международных. Сейчас это очень часто становится проблемой — люди не могут посетить значимый международный конгресс не только потому, что нет денег, а из-за того, что на самом деле нечего показать на таком уровне. Собственно, вот три кита для фундаментальной науки: получение оригинального результата, его публичное обсуждение (опубликование и представление на конференциях) и признание. Это главное, остальные показатели можно, вспоминая соцсоревнования, придумывать до бесконечности. Конечно, если речь идет о молодых ученых, то здесь нужны добавочные критерии для ускорения научной карьеры: защита диссертаций, наличие молодежных грантов и премий и т.д.
Для института, понятно, система сложнее, здесь очень важно и общее количество опубликованных работ, и внебюджетная деятельность, она разная: гранты научных фондов (фундаментальные исследования) и хоздоговоры (прикладные разработки).
Я считаю, что в СО РАН существовала замечательная система оценки работы научных организаций: комплексные проверки. Во-первых, комиссия анализировала абсолютно все виды деятельности. Во-вторых, в ее состав входили твои же коллеги, которые понимали специфику научных достижений твоего НИИ. Мне кажется, было бы очень хорошо и полезно возродить эту практику, усовершенствовав в рамках новых требований: добавить в комиссию представителей из ФАНО, фондов, правительственных структур. Тогда к каждому институту будет действительно индивидуальный подход, о котором шло столько дискуссий.
Тем не менее, решение о критериях было принято, оценки должны появиться в середине будущего лета, хотя обещано, что пока не будет никаких последствий. Я считаю, это правильно: сначала надо досконально разобраться.
— В числе задач СО РАН записаны экспертная работа и работа по популяризации науки. По Вашему мнению, как нужно развивать эти направления?
— Конечно, нужно активнее участвовать в экспертизе проектов, где есть научный аспект, на уровне региона и страны. Мы видим: многие из них финансировались без учета мнения научного сообщества, и многие же проваливались. Кроме того, систему экспертной оценки надо упорядочивать. Причем даже там, где подразумевается формальное участие, следует работать не для галочки, а для эффекта, активно и конструктивно. В России, в Сибири, в Новосибирской области имеется большое количество идей и начинаний, проектов и программ, которые должны быть оценены научным сообществом. И нам, и правительственным, и инновационным структурам необходимо работать в тесной связке.
Что касается популяризации науки, то она сейчас принципиально важна, в первую очередь, потому что в ряде СМИ создан негативный образ РАН, связанный больше с имущественными вопросами, и этот образ заслоняет непосредственно научные результаты, которыми Академия по праву может гордиться. Необходимо именно их выводить на передний план.
В СО РАН делается многое: у нас есть замечательные издания — «Наука в Сибири» и «Наука из первых рук» — и их нужно всячески поддерживать. Мы сотрудничаем с федеральными СМИ — журналом «В мире науки» и газетой «Поиск», в которых сибирские ученые регулярно дают интервью и рассказывают о своей работе. Наши исследователи принимают активное участие в фестивалях науки, в СО РАН есть цикл лекций «Академический час». Все эти мероприятия надо поставить на еще более высокий и масштабный уровень, чтобы у населения, прежде всего у молодежи, оставались неизгладимые впечатления о науке и ее творцах.
Записала Екатерина Пустолякова
Фото Юлии Поздняковой
- Подробнее о "Работы хватит"
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии