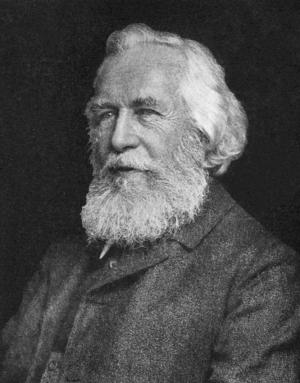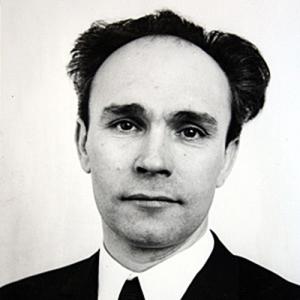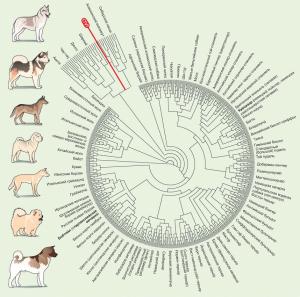В самом конце прошлого года на очередном заседании Уральского отделения Российской академии наук состоялось выдвижение кандидата на должность президента РАН. Напомним, выборы должны пройти в марте 2017 года. В адрес Президиума УрО РАН поступили письма от академиков Геннадия Месяца (в свое время много лет возглавлявшего Уральское отделение РАН) и Михаила Садовского с предложением поддержать кандидатуру действующего президента РАН Владимира Фортова. Он, как стало известно, решил вновь баллотироваться на этот пост. Большинством голосов кандидатура Владимира Фортова была поддержана.
Попасть в заданные рамки
Как стало известно «НГ», с 17 января начнется обсуждение кандидатур на пост президента РАН в отделениях Академии. Возможно, кроме Фортова, еще появятся две-три кандидатуры.
Любопытно, что во время предыдущей, 2013 года, предвыборной кампании еще накануне голосования один из академиков, попросивший не называть его имени, сетовал, что интрига была убита заранее: «Поражает, что ни одно из региональных отделений РАН – Сибирское, Уральское, Дальневосточное – не выдвинуло своего кандидата. Выдвинутый Санкт-Петербургским научным центром РАН Жорес Алферов – это скорее отвлекающий маневр».
29 мая 2013 года на Общем собрании РАН прошли выборы президента Академии. На этот пост члены Академии избрали академика Фортова. Больше месяца спустя правительство РФ утвердило Фортова. А 27 июня 2013 года грянула реформа академической науки.
Впрочем, сегодня интрига заключается совсем в другом.
Здесь, по-видимому, имеет смысл напомнить некоторые формальные требования, закрепленные в Уставе РАН (принят 27 марта 2014 года), касающиеся выборов президента РАН.
«Пункт 80. Президент Академии является единоличным исполнительным органом управления Академии.
81. Президент Академии избирается из числа академиков Академии сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Академии более 2 сроков подряд.
На должность президента Академии не могут быть рекомендованы члены Академии старше 75 лет, если такое ограничение установлено законодательством Российской Федерации.
Избранный общим собранием членов Академии президент Академии вступает в должность после его утверждения Правительством Российской Федерации. До утверждения в должности Правительством Российской Федерации избранный Общим собранием членов Академии президент исполняет обязанности президента Академии...
143. Президент Академии, наделенный в установленном порядке соответствующими полномочиями до дня вступления в силу Федерального закона, осуществляет указанные полномочия в течение 3 лет со дня проведения первого общего собрания членов Академии».
Таким образом, фактически Владимир Фортов идет не на второй срок, а на «полуторный»: 3 + 5.
Федеральный закон, о котором упоминается в пункте 143, – это известный Закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Подписан президентом РФ Владимиром Путиным 27 сентября 2013 года. Согласно этому ФЗ № 286, три государственные академии – РАН, Российская академия сельскохозяйственных наук и Российская академия медицинских наук – объединялись в одну «большую», собственно в Российскую академию наук. Создавалось Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), в полное хозяйственное и административное ведение которого передавались все исследовательские научные институты и организации РАН. За Академией оставалось научное руководство институтами.
Последнее, как было понятно с самого начала, осуществить на практике было невозможно.
Как реализовать научное руководство в организациях, которые административно тебе не принадлежат, никто еще не придумал. Академия де-факто была превращена именно в клуб по интересам с небольшим, почти символическим бюджетом на так называемые программы Президиума РАН. И никакой принцип «двух ключей», который отстаивает Владимир Фортов, здесь не спасает.
Этот принцип в лучшем случае лишь паллиатив. ФАНО, как быстро выяснилось, не собирается ограничивать свои функции лишь сферой ЖКХ, финансированием и управлением имуществом Академии, но активно принялось именно за структурные реформы в РАН. Немного утрируя, бухгалтеры теперь определяют научную политику Академии наук.
«Хомут в виде ФАНО»
Как бы там ни было, Владимир Фортов вписывается во все формальные требования, предъявляемые к претендентам на пост президента РАН.
23 января Владимиру Фортову исполняется 71 год. Так что и возрастной ценз в данном случае соблюден.
Владимир Евгеньевич Фортов – выпускник Московского физико-технического института (1968) по специальности «Термодинамика и аэродинамика» (с отличием). С 1971 по 1986 год работал в Институте химической физики АН СССР. Доктор физико-математических наук, профессор, академик. С 1986 по 1993 год – заведующий отделом, затем – директор Научно-исследовательского центра теплофизики импульсных воздействий научного объединения «ИВТАН».
С 1993 по 1997 год – председатель Российского фонда фундаментальных исследований
С октября 1996 года – вице-президент РАН. С августа 1996-го по март 1997 года – заместитель председателя правительства РФ – председатель Государственного комитета РФ по науке и технологиям, с марта 1997-го по апрель 1998 года – министр науки и технологий Российской Федерации. Другими словами, Владимир Фортов – действующий ученый с богатым опытом административной работы в высших государственных областях. Редкое сочетание не только для России. Но для России – особенно.
 Впрочем, некоторые коллеги Фортова абсолютно пессимистически с самого начала реформы РАН в 2013 году относились и относятся к перспективам академической науки в России. Так, в конце декабря 2016 года академик Юрий Рыжов в интервью «МК» заявил: «Фортов был избран (в 2013 году. – «НГН»), как вы знаете, легко. А потом произошло то, что произошло, – уничтожение академии. Я считаю, что она была уничтожена именно в тот самый момент, когда выяснилось, что над ней зависает организация чиновников ФАНО... Я считаю, что как только Фортову повесили хомут в виде ФАНО на шею, ему надо было хлопнуть дверью и уйти в свой блестящий Институт высоких температур, которым он руководит».
Впрочем, некоторые коллеги Фортова абсолютно пессимистически с самого начала реформы РАН в 2013 году относились и относятся к перспективам академической науки в России. Так, в конце декабря 2016 года академик Юрий Рыжов в интервью «МК» заявил: «Фортов был избран (в 2013 году. – «НГН»), как вы знаете, легко. А потом произошло то, что произошло, – уничтожение академии. Я считаю, что она была уничтожена именно в тот самый момент, когда выяснилось, что над ней зависает организация чиновников ФАНО... Я считаю, что как только Фортову повесили хомут в виде ФАНО на шею, ему надо было хлопнуть дверью и уйти в свой блестящий Институт высоких температур, которым он руководит».
Другое дело, что все понимают: персона нового президента РАН будет зависеть не только от солидарного мнения академиков, выраженного на Общем собрании РАН в марте 2017 года. Недаром кандидатуру Владимира Фортова после его избрания в 2013 году президентом РАН более месяца не утверждало правительство РФ. Тот же академик Рыжов эмоционально отмечает: «Вы что, думаете, из Кремля звонили и давали команды? Сейчас большинство чиновников ориентированы, как собаки, на ветер, и их главная задача – предугадать, что понравится власти. Угадали или нет в данном случае – кто знает».
И в этом контексте, конечно, многие эксперты вспоминают диалог между Владимиром Путиным и Владимиром Фортовым на заседании Совета при президенте по науке и образованию 23 ноября 2016 года. Почти мемом стала фраза Владимира Путина о том, что, несмотря на его настоятельное пожелание отказаться от избрания в РАН, некоторые высшие чиновники – из Управления делами президента, Министерства образования, МВД, Министерства обороны, из ФСБ – баллотировались в Академию наук и были избраны.
В связи с этим Путин обратился к президенту РАН Владимиру Фортову с вопросом: «Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может? Это первый вопрос. И второй – что мне теперь делать с этим?» Ответ Фортова был краток, но исчерпывающе точен: «Значит, они достойны того, что их избрали». «Я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой. Потому что, судя по всему, их научная деятельность важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления», – подвел черту Путин.
Тут же началась и продлилась несколько недель в самых разных СМИ, включая федеральные телеканалы, кампания «разоблачения коррупции» в Академии наук. Естественно, поднялась и очередная волна «народной» критики в адрес РАН. (Первая была в 2013 году, когда потребовалось моральное обоснование объявленной реформы РАН с объединением ее с РАМН и РАСХН.)
Многие комментаторы поспешили поставить под сомнение и дальнейшую возможность пребывания Владимира Фортова в должности президента РАН. Однако, на удивление, Фортов вел и ведет себя очень спокойно (по крайней мере внешне), уверенно и даже независимо (насколько это возможно в данной ситуации).
Вспомнить про науку
Вспомним, что в 2013 году именно вмешательство президента РФ Владимира Путина позволило убрать из первоначального законопроекта о реформе РАН наиболее одиозные положения. «У меня была встреча с новым президентом Академии наук. Он принес целый список вопросов, который считал необходимым отразить в проекте закона. Я согласился со всеми предложениями, кроме одного», – заявлял Путин в сентябре 2013 года. (Например, бывший министр науки и образования РФ Дмитрий Ливанов на заседании правительства 27 июня 2013 года заявил: «…в РФ создается основанное на членстве общественное государственное объединение «Российская академия наук». А в первом варианте законопроекта было записано: «В течение трех месяцев с момента вступления в силу настоящего федерального закона правительство Российской Федерации:
1) назначает ликвидационные комиссии Российской академии наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии медицинских наук, являющихся государственными академиями наук…»)
Летом того же года пост руководителя ФАНО Путин предложил занять именно Владимиру Фортову, и тот согласился. Но что-то не сложилось в бюрократическом пасьянсе, «место силы» во внутриэлитной конкуренции определили другие группировки: главой ФАНО стал 37-летний финансист из Красноярска Михаил Котюков.
Затем 31 октября 2013 года на встрече с президентом РАН и руководителем ФАНО Владимир Путин неожиданно делает следующее заявление: «…я думаю, что было бы правильно, если и вновь образованное агентство, и президиум Академии наук совместно исходили бы из некоего моратория на использование имущества и при решении кадровых вопросов. С тем чтобы в течение года, не спеша, агентство могло бы само разобраться и сделать это с помощью Президиума Академии наук, что же нужно вновь созданной большой академии, совсем уже большой, состоящей из трех частей, и какое имущество следует как-то использовать, может быть, по другому назначению.
Но во всяком случае, чтобы в течение года не принималось никаких решений, которые могли бы привести к невосполнимым утратам». «Казнь отложили!» – выдохнуло академическое сообщество. Частота употребления слова «мораторий» резко подскочила.
Все это позволяет сегодня, спустя 3,5 года после начала реформы РАН, говорить, что ноябрьская 2016 года коллизия вокруг Российской академии наук может быть интерпретирована и в терминах сугубо ведомственной схватки за ресурсы (материальные, финансовые, властные). Нельзя исключить версию, что кто-то «подставил» РАН специально, а следовательно, и ее президента. Пример типичной борьбы за место под бюрократическим солнцем, межведомственная ревность и конкуренция, переходящие в борьбу за выживание.
И на чьей стороне в этой схватке за ресурсы будет Путин, никому не известно. Думается, на стороне Фортова остается и какой-никакой, но административный ресурс. По крайней мере, по информации «НГ», аппарат Президиума РАН сейчас заработал на повышенных оборотах.
Как бы там ни было и кто бы ни стал следующим, 22-м президентом РАН, но задачи ему придется решать. Их, кстати, хорошо сформулировал во время своей первой президентской кампании в 2013 году тот же Владимир Фортов:
«Российская академия наук обязана взять на себя научное сопровождение стратегии модернизации страны и общества, стать лидером в разработке целенаправленной научно-технической политики России, дать ясную программу социально-экономического, технологического и культурного развития, предложить алгоритм движения вперед»; «Следует также добиваться финансирования РАН отдельной строкой бюджета РФ, как это происходило ранее и как это происходит сейчас с финансированием МГУ, СПбГУ и Курчатовского института»; «Многолетний кадровый застой (в результате которого только 14% ученых РАН имеют возраст 30–39 лет, а более половины – достигли пенсионного возраста) – серьезная причина стагнации Академии наук...»
К этому можно добавить, что изношенность приборного парка Академии наук составляет 80%. Много чего еще можно добавить. Другое дело, доберутся ли до решения этих проблем заигравшиеся в реформу Академии наук чиновники от науки.
Андрей Морозов