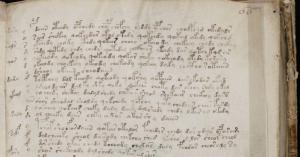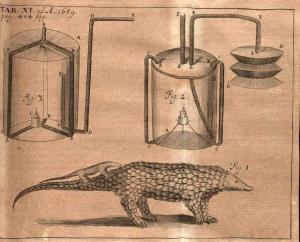Картошка «с сибирским характером»
Мы продолжаем тему состояния отечественной селекции и задач, которые перед ней стоят, начатую в интервью с помощником руководителя ФАНО, д.с.х.н., профессором РАН Екатериной Журавлевой. Тогда мы говорили о селекции как науке в целом, а сейчас рассмотрим ситуацию более детально на примере картофеля – культуры, занимающей важное место в рационе большинства россиян. Наши сегодняшние собеседники: зав. лабораторией селекции, биотехнологии и агротехники картофеля Кемеровского НИИСХ (филиал СФНЦА РАН), к.с.-х.н. Валентина Куликова и научный сотрудник этой же лаборатории Вера Ходаева.
– Как создается новый сорт картофеля?
Вера Ходаева: – Чтобы быть востребованным у производителей, сорт должен обладать определенным набором свойств: быть пластичным, давать высокие урожаи даже при воздействии неблагоприятных факторов, устойчивым к наиболее распространенным болезням и вредителям. Также он должен быть пригодным для современного интенсивного уровня возделывания и переработке на картофелепродукты. Ну и в последнее время развивается новое направление по созданию диетического картофеля. Это, так скажем, универсальные требования, которым следуют селекционеры нашей страны. Что касается наших особенностей. Климат нашего региона резко-континентальный с довольно большими перепадами температуры воздуха в течение суток. Поэтому изучение поведения созданных сортов и перспективных гибридов картофеля в таких условиях на сегодня остается актуальной задачей.
– Сколько в этом процессе научной работы, а сколько – практической?
Валентина Куликова: – Научная и практическая работа так тесно переплетены, что их нельзя отделить друг от друга. В селекционных питомниках на разных этапах работы селекционер проводит разноплановые научные изыскания. Полученные результаты селекционер подвергает всестороннему анализу, получая новые знания. Например, так ведутся наблюдения по подбору родительских пар, изучается их родословная, с заданными параметрами в конкретных климатических условиях. На том же принципе основана работа по изысканию технологии выращивании сорта, где в полевых условиях изучаются вопросы по физиологии растений, оптимальному минеральному питанию для получения высоких урожаев, устойчивости к абиотическим и биотическим факторам среды. Поэтому определить процентное соотношение науки и практики в селекционном процессе нельзя, это две тесно переплетенные составляющие одного процесса.
– Какие сорта были созданы вашим коллективом?
В.К.: – Как уже говорилось, селекционеры в своей работе ориентируются на запросы со стороны потребителей, причем, на всех уровнях производства. У крупных товаропроизводителей и фермеров наибольшим спросом пользуются сорта картофеля ранней и среднеранней группы спелости, высокоурожайные, с высокими товарными качествами клубней.
Все чаще встает вопрос о сортах картофеля пригодных к переработке на крахмал, чипсы, картофель «фри» и другие продукты. Частному сектору необходимы сорта очень ранние (40-50 дней), среднеранние и среднеспелые, продуктивные, с высокими вкусовыми и товарными качествами, устойчивые к использованию в монокультуре.
Также у нашего населения растет интерес к сортам картофеля для диетического питания, с необычным цветом кожуры и мякоти (разные оттенки фиолетового, ярко красные, оранжевые, розовые и желтые), с высоким содержанием антиоксидантов. Исходя из этих пожеланий, нашими селекционерами была создана целая «линейка» сортов (подробнее – см. в нашей справке).
– Применительно к селекции в Кемеровской области говорят о наследии Л.С. Аношкиной. Что имеется в виду?
В.К.: – Любовь Сергеевна стояла у истоков создания селекции в Кемеровской области (с 1986 г.), собрала большую коллекцию образцов картофеля для создания новых сортов. Она обладала «чутьём» селекционера и под руководством Любови Сергеевны совместно с коллективом селекционеров лаборатории создано девять сортов картофеля (о которых говорилось выше), востребованных не только в Кемеровской области, но в РФ и ближнем зарубежье. Она оставила солидный задел ценного селекционного исходного материала и огромный научный «багаж» в виде рекомендаций, монографий и статей, которые используются и сегодня в создании новых сортов картофеля.
– Над чем сейчас работают сотрудники лаборатории селекции, биотехнологии и агротехники Кемеровского НИИСХ - филиала СФНЦА РАН?
 В.К.: – В последние годы мы наблюдаем устойчивую тенденцию снижения эффективности отечественных сортов картофеля. Исправить ситуацию и повысить конкурентоспособность можно только созданием новых сортов. А их параметры, как мы говорили, определяются запросами игроков рынка, от крупных производителей до приусадебных хозяйств. Если говорить о конкретных задачах, которые можно решить только с помощью современных методов биотехнологии, то в их числе создание форм, устойчивых к золотистой картофельной нематоде, вирусу Y и бледной картофельной нематоде (с использованием ДНК маркеров). Другое важное направление - оздоровление исходного селекционного материала картофеля биотехнологическими методами от вирусной и бактериальной инфекции. Ведутся работы по усовершенствованию производства оздоровленного исходного селекционного материала картофеля (получение рассадных растений и миниклубней на аэро- и гидропонных установках). А также – над целым рядом других, не менее важных задач.
В.К.: – В последние годы мы наблюдаем устойчивую тенденцию снижения эффективности отечественных сортов картофеля. Исправить ситуацию и повысить конкурентоспособность можно только созданием новых сортов. А их параметры, как мы говорили, определяются запросами игроков рынка, от крупных производителей до приусадебных хозяйств. Если говорить о конкретных задачах, которые можно решить только с помощью современных методов биотехнологии, то в их числе создание форм, устойчивых к золотистой картофельной нематоде, вирусу Y и бледной картофельной нематоде (с использованием ДНК маркеров). Другое важное направление - оздоровление исходного селекционного материала картофеля биотехнологическими методами от вирусной и бактериальной инфекции. Ведутся работы по усовершенствованию производства оздоровленного исходного селекционного материала картофеля (получение рассадных растений и миниклубней на аэро- и гидропонных установках). А также – над целым рядом других, не менее важных задач.
– Вы говорили, что новые сорта должны создаваться с учетом региональных особенностей. А какими чертами должны обладать "сибирские" сорта картофеля?
В.Х.: – Сорта картофеля должны быть пластичны, давать высокие урожаи даже в непростых условиях Западной Сибири. Имеются в виду перепады температуры воздуха, почвенные и воздушные засухи в июне и июле, переувлажнение в августе и при уборке в сентябре и т.д. И наши сорта в годы с экстремальными погодными катаклизмами давали хорошие урожаи с высоким качеством семенного картофеля.
Например, в 2012 году при почвенной и воздушной засухе, когда не было дождей с середины июня до 3 августа, не было ни росы, ни туманов, сорта картофеля Накра, Любава, Тулеевский, Удалец, Кузнечанка, пережив засуху, используя августовские дожди, дали высокие урожаи.
В 2013 году 30 июля прошёл сильный град в течение 30 минут, поле выглядело, как будто скосили газонокосилкой. Было повреждено 60 % растений картофеля. Однако урожай получился не меньше чем в другие годы – 20-25 тонн семенных клубней с гектара. Это говорит о высокой адаптивной способности созданных нами сортов в экстремальных условиях региона.
– С какими научными организациями страны вы сотрудничаете?
В.Х.: – Наш институт сотрудничает с Всесоюзным институтом растениеводства (Санкт-Петербург), Всероссийским институтом картофельного хозяйства имени Лорха (Москва), Уральским НИИСХ, Научно-практическим центром НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, ФИЦ "ИЦиГ СО РАН" (Институт цитологии и генетики, г. Новосибирск), ФГБНУ ВНИИСБ (Всесоюзный научно-исследовательский институт сельскохозяйственных биотехнологий, г. Москва), СибНИИСХ (Омск). Со всеми этими научными центрами и институтами мы обмениваемся материалом, перспективными генотипами, ищем новых доноров.
– Готовы ли сибирские сельхозпроизводители воспринимать разработки отечественных селекционеров, насколько они востребованы на рынке?
В.К.: – Хотя большая часть реализованного нами семенного фонда приходится на Кемеровскую область и Алтайский край, отмечу, что созданные нами сорта пользуются большим спросом у товаропроизводителей картофеля по всей Сибири и за ее пределами. Наиболее популярны сорта Тулеевский и Кемеровчанин (27,4 % и 21,0 % от произведенных оригинальных семян класса супер-суперэлита соответственно). Основными потребителями являются крупные товаропроизводители и фермерские хозяйства, реже - частные лица. Всего за период 2013-2017 гг. институтом произведено более 800 тонн картофеля сортов собственной селекции оригинальных семян класса супер-суперэлита.
Вопросы задавала Наталья Тимакова
Наша справка. Сорта картофеля, созданные в Кемеровском НИИСХ – филиале СФНЦА РАН:
Сорт Накра (2000 г.) характеризуется повышенным содержанием крахмала (20-28 %), относительной устойчивостью к фитофторозу, высокой устойчивостью к парше обыкновенной, хорошей лёжкостью клубней при хранении, относительной устойчивостью к поеданию колорадским жуком, пригоден для приготовления картофеля фри.
Сорт Любава (2003 г.) обладает ранним формированием товарного урожая (максимальная урожайность раннего картофеля 60,0 т/га на поливе); увеличенным периодом вегетации и покоя, даёт высокие урожаи, характеризуется высокой лёжкостью клубней, хорошими вкусовыми качествами, относительной устойчивостью к фитофторозу и альтернариозу.
Сорт Тулеевский (2006 г.) пользуется огромным спросом как у производственников, так и у частного населения РФ. За такие качества, как неприхотливость к почве и погодным условиям, обладая высокой пластичностью; высоким стабильным урожаем, приятным вкусом и рассыпчатой консистенцией мякоти, хорошей лёжкостью клубней при хранении.
Сорт Удалец (2006 г.) отличается высокой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами, нежной консистенцией пюре, устойчивостью к раку, очистительной способностью почвы от золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Относительно устойчив к парше обыкновенной, альтернариозу.
Сорт Кузнечанка (2009 г.) характеризуется высокой урожайностью (на Сухобузимском сортоучастке Красноярского края в 2008 г. получена урожайность 1042 ц/га). Обладает относительной устойчивостью к фитофторозу, альтернариозу, парше обыкновенной, пригоден для переработки на хрустящий картофель, имеет низкое содержание редуцирующих сахаров, привлекательный внешний вид клубней.
Сорт Танай (2011 г.) характеризуется высокой урожайностью и хорошими вкусовыми качествами. Сорт устойчив к раку и золотистой картофельной нематоде. Обладает средней устойчивостью к фитофторозу, относительной - к альтернариозу и фузариозному увяданию, засухоустойчив, устойчив к механическим повреждениям, обладает хорошей лёжкостью клубней при хранении.
Сорт Кемеровчанин (2013 г.) высококрахмальный, характеризуется высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами. Устойчив к раку и золотистой картофельной нематоде, обладает высокой устойчивостью к фузариозному увяданию, альтернариозу, вирусу Y, средней устойчивостью к фитофторозу, устойчив к механическим повреждениям, высокой лежкостью клубней.
Сорт Мариинский обладает привлекательным внешним видом клубней, хорошими вкусовыми качествами, поверхностными глазками. Устойчив к золотистой картофельной нематоде, относительно устойчив к вирусам, фитофторозу, парше обыкновенной.
Сорт Синильга пригоден для диетического питания, с высоким содержанием антиоксидантов, фиолетовой мякотью и кожурой, используется для приготовления салатов в свежем виде.
- Подробнее о Картошка «с сибирским характером»
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии