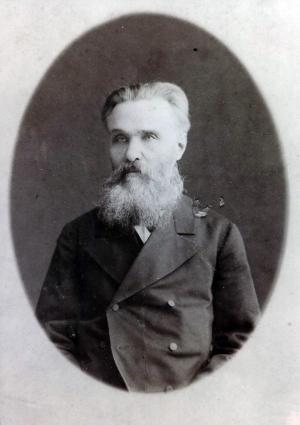«Мы идем от фундаментальных исследований до готовых решений в рамках одной структуры»
В марте этого года, в результате присоединения Института проблем переработки углеводородов СО РАН (ИППУ СО РАН, Омск) к новосибирскому Институту катализа СО РАН был создан Федеральный исследовательский центр «Институт катализа СО РАН». Рассказать о целях этого объединения и о задачах, которые будет решать новый ФИЦ, мы попросили заместителя директора Центра по научной работе, д.х.н. Олега Мартьянова.
– Я бы сказал, что идея создания федерального научного центра на базе Института катализа родилась не сейчас, а еще в начале 1990-х годов. Тогда открывался наш филиал в Омске и создавался «пояс внедрения», и реорганизация в ФИЦ сейчас вполне укладывается в логику именно этого вектора развития. Напомню, что Институт катализа в свое время курировал всю катализаторную промышленность не только в Советском Союзе, но и в странах СЭВ. Поэтому после объединения для нас мало что изменилось, в отличие от некоторых других ФИЦ, которые создаются по «территориальному признаку», объединяя в своей структуре самые разные научные институты.
– Ситуация, в сравнении с советским периодом, изменилась. Какие задачи стоят перед Вашим Центром сегодня?
– Задачи, которые были поставлены еще во времена Георгия Константиновича Борескова, но, к сожалению, их решение затормозилось в период развала СССР. Это выполнение работ полного цикла, когда мы идем от фундаментальных исследований до готовых решений в рамках одной структуры ФИЦ. Причем мы говорим о востребованных решениях – продуктах и технологиях, которые будут внедряться на производстве.
– В ФИЦ уже есть конкретные проекты полного цикла, работа над которыми ведется?
– Конечно. Как я сказал, по факту мы эту работу вели и до официальной реорганизации, сейчас она продолжается. Мы имеем большой портфель проектов как с российскими («Газпром нефть», СИБУР и т.п.), так и зарубежными компаниями, прежде всего, входящими в мировой топ-20 (BASF, Honeywell и т. п.). Очень крупный проект связан с катализаторным заводом, который строит ПАО «Газпром нефть» рядом с нашей площадкой в Омске. Примеров строительства заводов, работающих по самым современным технологиям в новейшее время, увы, немного. И один из них создается с нашим участием, поскольку работать он будет, в том числе, на основе наших технологий. Другой пример – разработанные нашими учеными котельные, где топливо эффективно сжигается в кипящем слое катализатора.
На первый взгляд, это гораздо более локальный проект. Но наши котельные могут, например, решать важную задачу энергообеспечения объектов и целых поселений, удаленных от традиционной инфраструктуры. А это очень важно в рамках освоения наших северных территорий, прежде всего, Арктики.
Параллельно нами была создана технология сжигания влажных топлив и отходов, в том числе осадков сточных вод коммунального хозяйства, в качестве топлива для подобных котельных. И это направление мы продолжаем успешно развивать, поскольку постоянно требуется доработка технологии под конкретные параметры заказчика.
– Какова роль, которую ФИЦ будет играть в реализации проекта ЦКП «СКИФ»?
– Мы генеральный заказчик этого проекта, это и есть наша роль. И уже около года совместно с Институтом ядерной физики и специалистами из других институтов обеспечиваем большую часть работ, проводимых проектным офисом ЦКП «СКИФ», преимущественно за счет внебюджетных средств -. У нас большой опыт выполнения функций интегрирующей организации, которая может взять на себя определенные венчурные вложения до начала государственного финансирования. Позволить себе финансирование работ в таком режиме могут только несколько самых крупных институтов Сибирского отделения. Но «СКИФ» создается именно как центр коллективного пользования – уникальный мощный инструмент для многих исследовательских проектов различных научных и промышленных организаций в области геологии, археологии, химии, физики, биологии, медицины и др.
– Новые проекты, новые научные установки – это хорошо. А как обстоят дела с притоком новых научных сотрудников?
–Не скажу, что мы полностью удовлетворены тем, как у нас идет приток научной молодежи. Равно как и не совсем довольны государственной поддержкой этого процесса. Но мы стабилизировали ситуацию с «утечкой мозгов» в начале 2000-х годов. Тогда число уезжающих за границу сотрудников примерно сравнялось с теми, кто приходил им на смену после аспирантуры. Меняется и направление этой «утечки»: если раньше молодежь ехала в основном за границу, то теперь большинство идет работать в российские компании или представительства зарубежных компаний в нашей стране.
– За счет чего удалось стабилизировать ситуацию?
– Хорошо, что у нас в Академгородке создана замечательная взаимодополняющая система из университета и научных институтов. И пока основу преподавательского корпуса университета составляют ученые институтов, пока там работают наши базовые кафедры, мы можем рассчитывать на приток новых сотрудников. Хотя эта задача все равно остается для нас очень важной и нельзя сказать, что мы спокойно смотрим на происходящее.
– А можно ее решить кардинально в современных условиях?
– На мой взгляд, произошло следующее. С определенного момента, государство стало стимулировать западную модель организации научной работы, ориентированную на постоянный проток молодых кадров. Есть профессор, через работу с ним проходит много молодых людей, но они надолго с ним не задерживаются. Получают некий опыт, реализуют его в виде статей, ученой степени и дальше выбирают: либо переходят работать в бизнес, либо начинают двигаться по преподавательской стезе, чтобы со временем стать таким же профессором. В этом случае центрами науки становятся университеты. В СССР была другая модель, состоящая из академических и отраслевых научных институтов, в которых существовал костяк постоянных сотрудников.
Обе модели имеют свои преимущества. Первая больше ориентирована на «исследования первого шага», которые заканчиваются публикацией в журнале с хорошим импакт-фактором. Это тоже очень важно, но большие проекты, которые требуют привлечения разных специалистов и могут занимать много лет, удобнее реализовывать в рамках второй модели. В этом смысле Академгородок – это уникальный реализованный и эффективно работающий проект, который включает в себя все перечисленные возможности.
– Среди наших читателей хватает студентов и аспирантов. Что бы Вы могли сказать им как потенциальный работодатель, почему стоит идти именно в Ваш Центр?
– Могу назвать несколько причин. Если вам одинаково нравятся химия, физика, математика, то вам подойдет Институт катализа. Значительная часть наших проектов осуществляется на стыке этих направлений, да еще и с привлечением биологии. В итоге людей с химическим образованием в нашем коллективе меньше половины. И два предыдущих директора института – Кирилл Ильич Замараев и Валентин Николаевич Пармон – заканчивали физтех, а не химический факультет. То есть в нашем случае междисциплинарность – это не штамп, а основа научной работы. Второй важный момент – для тех, кто рассчитывает надолго связать свою жизнь с наукой, неважно, фундаментальной или прикладной. Я уже говорил, что у нас есть большой портфель заказов от крупных компаний. Поэтому работа в Институте катализа дает возможность участвовать в создании востребованных на рынке продуктов и решений. То есть, у нас есть вся «линейка» научной работы: хочешь, можно заниматься фундаментальными исследованиями, а если по душе больше прикладные работы, – есть контракты от бизнеса. Третий наш «плюс» – это сложившаяся репутация в России и за рубежом. Сейчас нехватка кадров в отрасли очень велика, и компании с удовольствием берут на работу тех, кто прошел «школу» в стенах Института катализа. В итоге, мы как работодатель можем быть интересны самым разным молодым специалистам с различными планами в отношении занятий наукой. Главное, было бы желание работать и развиваться.
Сергей Исаев
- Подробнее о «Мы идем от фундаментальных исследований до готовых решений в рамках одной структуры»
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии