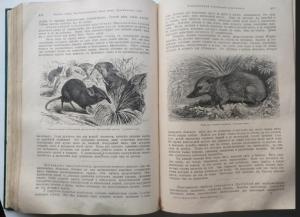В настоящее время интенсивная агротехника (в первую очередь, в овощеводстве) ассоциируется у нас либо с гидропонными системами, либо с обильными поливами и минеральными подкормками. Интенсив и «химия» как будто идут неразлучно. Такая точка зрения с определенных пор стала стандартной. По этой причине ее стараются не распространять на методы органического земледелия, которое, в свою очередь, нередко напрямую увязывается с традиционными, «доиндустриальными» подходами к выращиванию растений. То есть с незамысловатыми «крестьянскими» практиками ведения сельского хозяйства.
Отсюда вытекает устойчивое убеждение, будто массовое производство продуктов питания, способное насытить рынок недорогой едой, связано исключительно с индустриальным «химическим» земледелием. Например, современный агроном, обученный передовым методикам, вряд ли представит себе высокопродуктивное сельхозпроизводство без сложной спецтехники и использования минеральных удобрений. Про гидропонные установки, применяемые в любом серьезном тепличном хозяйстве, и говорить нечего. По этой логике органическое земледелие должно находиться где-то в сторонке, ища своего потребителя среди взыскательных, но в то же время состоятельных клиентов. Дескать, органическая продукция ориентируется исключительно на качество, добиваясь его за счет снижения количества. Потому она рассчитана не на массовый спрос, а на относительно небольшую целевую аудиторию, способную смириться с высокими ценниками, зато взамен поучая вкусную, экологически безопасную и здоровую еду.
Во многом только что сказанное соответствует действительности. Но не во всём. На самом деле интенсивная агротехника применима и к органическому земледелию. Впрочем, нельзя сказать, что этот вопрос поставлен только сейчас.
Еще в середине 1970-х годов американский фермер из Калифорнии Джон Джевонс разработал принципы высокопродуктивного овощеводства, не требующего никакой «химии» (включая и защиту от вредителей и болезней). В каком-то смысле система Джевонса открывала новую веху в развитии органического земледелия. Причем, Джевонс в этом плане был не одинок. В начале 1980-х годов появилась система квадратных грядок, предложенная Мэлом Бартоломью.
Казалось бы, вопрос с количеством здесь также решен, и по части урожайности данное направление вполне может сравняться с высокоинтенсивными индустриальными способами выращивания.
Однако если вы попытаетесь применить указанные методики на своем участке, вы сразу же поймете, что задача повышения урожайности для «органической» продукции потребует от вас немалых усилий и материальных затрат. Так, система Джевонса предполагает двойную и глубокую перекопку грядок, что само по себе способно вызвать оторопь у любого дачника. Система Бартоломью требует большого количества покупного субстрата для приподнятых грядок, что означает серьезные капитальные затраты. Поэтому, несмотря на продуманность и высокую продуктивность данных систем, с позиции нынешнего дня они выглядят несколько устаревшими. Почему? Потому что в рамках современного экологического сознания «органический» подход к выращиванию растений мыслится в формате взаимодействия человека с природой. Это означает, по сути, что вы сводите к разумному минимуму свое вмешательство в ход естественных процессов, позволяя самой природе направлять эти процессы в нужную вам сторону. Ресурсозатратный подход теперь воспринимается как пережиток прошлого. Физический труд – это тоже ресурс, и совершенство системы состоит в способности обеспечить экономию и по этому пункту. Ибо плоха та система, когда большие урожаи даются вам в тяжелой и изматывающей борьбе.
Примерно с таких позиций современные сторонники органического земледелия оценивают его потенциал, рассуждая о повышении урожайности без применения «химии». Основной посыл, который продвигают авторы подобных публикаций, сводится к тому, что для органического земледелия необходимо создавать ИНДИВИУАЛЬНУЮ систему интенсивного выращивания, приспосабливая ее как к природно-климатическим условиям вашего региона, так и к вашим возможностям. Иными словами, будет неправильно проецировать на каждый участок какую-то единую для всех систему выращивания. Такие подходы характеризуют как раз индустриальные системы, функционирующие подобно машинам. Природно ориентированная система должна обладать гибкостью, которой как раз и отличается живой организм (в противовес мертвому механизму).
Упомянутых авторов полностью игнорировать не стоит, но если ориентироваться на разработанные ими системы, то из них можно «вычленить» четыре основополагающих ПРИНЦИПА, следуя которым, вы в состоянии создать собственную систему, наилучшим образом подходящую именно для вас.
Первый принцип касается использования постоянных грядок. Постоянные грядки дают вам возможность концентрировать все ваши усилия на конкретно очерченных местах, не распыляя силы по всему участку. Кроме того, такое дизайнерское решение позволяет вам пользоваться постоянными дорожками, чтобы не затаптывать почву там, где выращиваются овощи.
 Второй принцип связан с широким использованием компоста (или перегноя), заготавливаемого самостоятельно на самом участке. Компост, по сути, является «хлебом» органического земледелия, и используется во всех интенсивных системах.
Второй принцип связан с широким использованием компоста (или перегноя), заготавливаемого самостоятельно на самом участке. Компост, по сути, является «хлебом» органического земледелия, и используется во всех интенсивных системах.
Третий принцип – использование смешанных посадок. Это принцип является ключом к повышению продуктивности участка «органическим» способом. Суть его в том, чтобы использовать для выращивания практически ВСЮ поверхность грядки, не оставляя оголенных промежутков между растениями. В данном случае речь идет о чередовании разных культур, имеющих разную высоту, разную глубину залегания корней и разную скорость роста. Фактически это означает, что вы просто экономите площадь участка, грамотно сочетая растения на одном пространстве – вместо того, чтобы готовить для них отдельные грядки в разных местах. То есть вопрос не в том, как повысить валовый сбор какой-то отдельной культуры за счет подкормок, а как рационально использовать имеющиеся площади, чтобы не занимать слишком много земли.
Наконец, четвертый принцип: заделка пустующих мест после сбора урожая дополнительным посевом. В этом случае необходимо тщательное планирование всех посадок в течение всего вегетационного периода. То есть в этом случае мы добиваемся экономии земли через разумное чередование культур во времени. Скажем, ранней весной мы высеваем шпинат, который убираем к концу весны. После чего на это место высаживаем рассаду томатов. Таким образом, с одной грядки мы «снимаем» уже два урожая. Вот вам конкретный пример экономии путем планирования посадок.
Как утверждают американские специалисты, при наличии плодородной почвы и густых посадок (имеется в виду сочетание разных культур на одной грядке) любой участок может стать высокопродуктивным. Тем не менее, здесь нет универсального алгоритма – каждый сам находит себе путь к высоким урожаям. Необходимо учитывать, что для этого понадобится определенный опыт, поскольку нахождение такого пути осуществляется только на практике. В любом случае вам придется адаптировать свою методику к конкретным условиям.
Допустим, каждый по-своему будет решать вопрос с компостом. У кого-то имеется доступ к большому количеству растительных остатков с соседних полей, кто-то получит возможность выращивать сидераты, кто-то начнет сгребать палую листву и скошенную сорную траву, а кто-то пустит в дело макулатуру и остатки пищи. То же самое касается сочетания и чередования культур в пределах каждой грядки. Единых для всех схем посадки здесь нет. Есть только рекомендации и положительные примеры. Высота грядок также будет варьировать в зависимости от местных условий. Там, где сильно застаивается вода, их стоит поднимать повыше. А где-то не нужно поднимать вообще.
Но и самое главное, о чем было сказано вначале: органическое земледелие требует постоянной оптимизации даже в том случае, если вы нацелились на высокие урожаи. Это означает, что изнуряющие трудозатраты и огромные капитальные вложения перечеркивают исходный смысл данного направления. Показательно, что ранние авторы стремились к тому, чтобы ваш участок выглядел эстетически безупречно. Современные сторонники органического земледелия не придают внешним эффектам большого значения. Поход здесь такой: «Пусть не эстетично, зато дешево, удобно и практично». Скажем, использование на грядках большого количества органической мульчи или компостирование отходов прямо на грядках привносит в эту картину «грубые мазки», снижая эстетическую привлекательность участка, зато заметно упрощает процесс, избавляя вас от ненужных трудовых операций. Как бы то ни было, но снижение трудозатрат на единицу выращенной продукции также является очень важным показателем интенсификации производства.
Широкое использование мульчи как раз является важной предпосылкой такой экономии, поскольку исключает избыточное механическое воздействие на структуру почвы. Как отмечается в упомянутой публикации, современные исследования выявили, почему минимизация обработки почвы дает положительный результат: потому что такой подход приводит к увеличению популяции полезных организмов, благотворно влияющих на плодородие. Ранние авторы не придавали этому большого значения, делая человека единственным активным участником производственного процесса. Образно говоря, не брали в расчет силы самой естественной среды, способной работать на наше благо даже в таком деле, как формирование хорошей почвенной структуры. Но сегодня, как я уже отмечал, благодаря росту «экологической сознательности» меняется и сама парадигма отношений людей к природе, где установка на борьбу постепенно сменяется установкой на сотрудничество.
Олег Носков