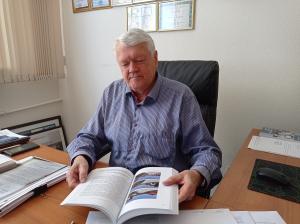Уголовное преследование экс-председателя СО РАН, академика РАН Александра Асеева, обвиняемого в том, что он, якобы, смошенничал при приватизации своего коттеджа, длится уже несколько лет. В сентябре дело дошло, наконец, до стадии судебного разбирательства, и уже на первом заседании ученый заявил, что дело против него сфабриковано и назвал все происходящее травлей. «Континент Сибирь» предложил академику Александру Асееву подробнее изложить свое видение ситуации, связанной с его уголовным делом.
Справка. В 2017 году в отношении Александра Асеева было возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть «приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использование своего служебного положения, в особо крупном размере». Органами предварительного следствия Александр Асеев обвиняется в том, что, являясь должностным лицом, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, нарушил действующее жилищное законодательство, принял меры к освобождению коттеджа в Советском районе Новосибирска, организовал заключение договора найма указанного жилого помещения и дальнейшую приватизацию коттеджа от имени своей дочери. Также, с использованием своего служебного положения организовал дорогостоящий ремонт коттеджа силами и за счет денег СО РАН и строительной организации. По утверждению следствия своими действиями Александр Асеев причинил ущерб государству на сумму свыше 45 млн. рублей. 3 августа 2021 года заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении А.лександра Асеева. В настоящее время уголовное дело находится в производстве Советского районного суда Новосибирска. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, по которой обвиняется Асеев, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
– Александр Леонидович, вы утверждаете, что дело против вас сфабриковано. Вы как-то аргументируете подобное заявление?
– Не вдаваясь в подробное изложение деталей уголовного дела, которые занимают 25 томов, в среднем по 200 страниц каждый, отмечу тот факт, что в предъявленном мне постановлении СУ СК по Новосибирской области о моем привлечении в качестве обвиняемого от 21 июля 2021 года, на 14 страницах я отметил 24 (!) ложных утверждения, которые убедительно опровергаются документами и материалами, содержащимися в упомянутых томах уголовного дела. Но на протяжении всего следствия дознаватели и следователи игнорировали это, отвергая практически все мои и моих защитников ходатайства и, тем самым, нарушали и мое конституционное право на защиту, и презумпцию невиновности. Именно на это я указал в своем выступлении на судебном заседании.
– Понятно, что перечисление и разбор всех 24 утверждений, которые вы можете оспорить, дело долгое. Но не могли бы вы привести пару примеров?
– Начну с того, что следствие утверждает, что я, якобы, уже в 2009 году сформировал «преступный умысел на приобретение путем обмана» коттеджа, в котором сейчас проживаю. Но далее в деле нет ни одного доказательства этого утверждения! Откуда следствие взяло, что у меня в голове сложился этот «преступный умысел»? И почему именно в 2009 году, а не раньше или позже? Например, когда я занимался научной работой, за которую получил звание академика, что и позволило потом выдвинуть мою кандидатуру на пост председателя СО РАН. А может еще раньше, когда я заканчивал школу и университет, я уже замышлял стать академиком и «незаконно приватизировать коттедж»?
Другой пример. Следствие утверждает, что я «обманул членов президиума СО РАН, обещая им, что коттедж будет служить резиденцией для приема иностранных гостей». Но нет никаких решений президиума о его использовании в качестве «резиденции», зато есть распоряжение и договор найма, где прямо говорится, что коттедж предоставляется семье Александра Асеева для проживания.
Еще меня обвиняют в том, что я, якобы, дал указание выселить из коттеджа семью академика Дмитрия Константиновича Беляева, проживавшую там до меня. Но семья покойного академика расселена решением совета учредителей НП АЖС-1 по просьбе его вдовы Светланы Владимировне Аргутинской, потому что коттедж в тот момент был фактически не пригоден для проживания. Ему требовался серьезный капитальный ремонт, чем Управление делами СО РАН и строители и занимались на протяжении нескольких лет.
А теперь следствие видит состав преступления еще и в том, что моя семья не сразу сдала нашу квартиру в казну, а три года спустя, компенсировав тем самым бюджетные расходы на ремонт. Возникает вопрос, а где моя семья должна была жить те три года, что длился ремонт коттеджа? На вокзале? В гостинице или общежитии? Следствие вменяет мне в вину, что я расписался за свою дочь, но умалчивает, что у меня была нотариальная доверенность от нее, дающая на это право. И таких моментов в обвинительном заключении, повторю, больше двадцати.
Более того, в деле имеется красноречивое письмо прокуратуры Новосибирской области от 13 марта 2020 года, подписанное начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Натальей Константиновной Авдеевой в адрес СУ СК по Новосибирской области на имя следователя Е.П.Семенова, в котором говорится, что «в настоящее время отсутствуют основания для обжалования решения Советского районного суда Новосибирска от 29.04.2015 по делу о признании за Асеевой Ольгой Александровной права собственности на коттедж по ул. Мальцева 16 в Новосибирске… Меры к возврату выбывшего из собственности РФ коттеджа могут быть приняты при наличии обвинительного приговора суда по уголовному делу по факту незаконного предоставления коттеджа в пользование Асееву Александру Леонидовичу».
Яснее не скажешь: чтобы лишить семью Асеевых законно занимаемого ими коттеджа необходимо любым способом возбудить уголовное дело в отношении Асеева и доказать факт незаконности предоставления ему коттеджа по ул. Мальцева 16. При этом приватизация нескольких десятков других коттеджей, совершенная в то же время другими учеными Академгородка, по тому же сценарию, почему-то не вызывает интереса ни у прокуратуры, ни у других правоохранительных органов. Всё это позволяет мне считать дело сфабрикованным и заказным с целью лишить мою семью нашего жилья в чьих-то корыстных интересах и отплатить мне за политику, которую я проводил в качестве председателя Сибирского отделения РАН.
– В таком случае, давайте немного коснемся истории этого уголовного дела. Как оно возникло и почему вроде бы простой вопрос о законности приватизации коттеджа тянется уже несколько лет?
– Чтобы лучше понимать ситуацию, начну с более ранних событий. Еще при Лаврентьеве возникла традиция предоставления академикам и директорам институтов коттеджей для проживания как признание их заслуг в развитии отечественной и мировой науки. И председатели СО РАН всегда были в их числе. Эта практика была подтверждена постановлением Совета министров СССР, и оно не отменено. После того, как я выиграл выборы и возглавил Сибирское отделение, в 2009 году мне был предложен для проживания коттедж, в котором ранее проживал академик Беляев, ушедший из жизни еще в восьмидесятые годы прошлого века. К тому времени коттедж был фактически в аварийном состоянии, почему вдова академика и попросила переселить ее и членов ее семьи. Несколько лет длился ремонт коттеджа, когда он закончился и мы с семьей въехали в него, мы с супругой сдали в казну свою квартиру в доме на проспекте Коптюга (которую мне никто не выдавал, и которая построена на заработанные семьей средства). И стоимость этой квартиры с лихвой покрыла затраты бюджета на приведение коттеджа в пригодное для проживания состояние. Казалось бы, все законно. Но не для всех это было очевидно.
В 2016 и 2017 годах от жильцов общежитий СО РАН стали поступать жалобы на злоупотребление председателем СО РАН должностными полномочиями. Видимо, их авторы считают, что руководитель СО РАН, почетный житель Новосибирска, лауреат различных премий и наград за десятилетия плодотворной работы в государственных и общественных интересах не мог заработать на нормальное жилье и тоже должен жить с семьей в комнате общежития. С этими жалобами, правда, не все гладко. В частности, у меня есть письменное подтверждение от автора одного из таких обращений, что он не имеет к нему никакого отношения, равно как и к подписи, которую, якобы, под ним поставил. Но эти «мелочи» следствие, видимо, не интересуют.
Хотя поначалу следователями пять раз (!) принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела в моем отношении за отсутствием состава преступления. Но каждый раз прокуратура оспаривала эти постановления и требовала заново проверить обстоятельства приватизации коттеджа.
Так эта история ходила по кругу, пока не произошли два события.
Первое – я добровольно ушел в отставку с поста председателя, отработав два срока почти по пять лет с 2008 по 2017 гг., и в знак протеста против результатов реформы РАН и невозможности вести научную работу под руководством далеких от науки чиновников Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Повторю, это было добровольное и принципиальное решение, я мог по закону пойти на выборы снова, у меня были для этого необходимые компетенции и опыт, поддержка в академической среде. А голосуют, напомню, только академики и члены-корреспонденты РАН.
А второе событие для меня стало полной неожиданностью – это то, что, когда дело все-таки было возбуждено, произошло это, по утверждению прокуратуры, «по материалам УФСБ РФ по Новосибирской области». То есть, в основу обвинительного заключения, того самого, где в тексте я нашел четверть сотни ложных утверждений, легли некие материалы от сотрудников новосибирского ФСБ.
– Почему это стало для вас неожиданностью?
– Как ученый, директор Института физики полупроводников СО РАН и председатель Сибирского отделения, я много лет успешно сотрудничал с центром специальной техники ФСБ. Эта работа отмечена медалью ФСБ, благодарственными письмами, грамотами и именными подарками от этой организации. И теперь мне очень обидно осознавать, что районное отделение ФСБ так оценивает меня и мою деятельность, участвует в расследовании, которое, повторю, содержит очень много недостоверной или искаженной информации.
– Вы также говорили, что это расследование связано не только с желанием отобрать у Вас коттедж, но и, косвенно, с вашей позицией относительно реформы РАН и противодействием распродаже земель новосибирского Академгородка. Расскажите об этом подробнее.
– Я, как и большинство ученых, негативно отнесся к озвученному летом 2013 года проекту «реформирования Академии наук», считая его необдуманным и губительным для нашей научной системы. Более подробно история реформы РАН и ее конструктивная критика содержится в моей недавно вышедшей книге «Наука Сибири на изломе эпох. Заметки участника событий». Сейчас же напомню только, что именно в Новосибирске 1 сентября 2013 года прошел самый массовый митинг ученых против реформы, в котором участвовал и я. После этого мне звонили из администрации президента РФ, мой собеседник пытался устроить мне разнос, но общего языка мы так и не нашли.
Далее, будучи уверенным, что инициатором реформы является не президент Владимир Владимирович Путин, к которому я отношусь с уважением, а люди из его окружения, по своей инициативе, я предпринял отчаянную попытку если не предотвратить, то хотя бы отложить подписание указа президента о реформе РАН. Для этого в сентябре 2013 года я отправился на международный арктический форум в Салехарде с участием глав государств арктического региона, где передал Путину свое письмо с просьбой об отмене реформы РАН, по крайней мере, до детального и открытого обсуждения всех аспектов реформы.
По возвращению я снова имел неприятный разговор с функционером из администрации президента. Указ о реформе РАН был подписан, как известно, 27 сентября 2013 года со всеми вытекающими последствиями. И, находясь на посту председателя СО РАН, я как мог, с помощью других ученых, пытался этим последствиям противостоять, что не добавляло мне популярности среди «реформаторов» и в ФАНО, которое поставили управлять наукой.
К сожалению, большую часть негативных последствий предотвратить не удалось. Реформа РАН как цунами обрушилась на нашу научную систему. Сибирское отделение фактически лишили возможности распоряжения значительным по объему федеральным бюджетом, что определило недофинансирование и зависимость региональной науки от настроения клерков в министерстве. Практика объединения институтов научных центров в городах Сибири в одно юридическое лицо под вывеской «Федеральный исследовательский центр» тоже ни к чему хорошему не привела. Ну не могут институты с совершенно разными профилями деятельности – физические, биологические, гуманитарные и так далее эффективно управляться одной дирекцией. Как можно, к примеру, адекватно и правильно формировать единую стратегию научной работы для Института леса, Института физики, Института вычислительного моделирования, Института химии и химической технологии и НИИ медицинских проблем Севера, которые теперь являются подразделениями ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»? Это приводит к тому, что ряд направлений исследований фактически прекращается, потому что не попадает в список приоритетов единого руководства. Ударом явилось разделение научных организаций и научных центров СО РАН на категории с отсутствием бюджетного финансирования мероприятий по развитию материальной базы для организаций 2-й и 3-й категорий, которые в настоящее время преобладают.
Перечислять можно еще долго. Но могу сказать, что, когда я был председателем СО РАН, мы всеми силами старались минимизировать ущерб для науки от таких решений, по возможности, добиваться их корректировки, если не отмены. И кое-что у нас все-таки получалось, что не добавляло мне друзей среди сотрудников ФАНО и других чиновников, проводящих «новую научную политику». Но в то время у меня были мощные союзники – академик и Нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов, тогдашний президент РАН, блестящий ученый Владимир Евгеньевич Фортов и другие. Оба этих замечательных человека, к сожалению, ушли из жизни и сейчас мне очень не хватает их поддержки.
– А в чем заключался спор вокруг земель Академгородка?
– Земля всегда была одним из главных материальных активов Академгородка и в постсоветское время не раз предпринимались попытки ею завладеть. Собственно, мое появление на посту председателя СО РАН в 2008 году и было связано с реакцией научного сообщества на решение тогдашнего президиума во главе с выдающимся ученым академиком Николаем Леонтьевичем Добрецовым о передаче всех свободных земель Академгородка в ведение Технопарка. Что бы сейчас представлял из себя Академгородок, можно видеть по застроенной до предела площадке Технопарка, где на небольшом участке «втиснуты» не только высотные башни производственной зоны, но и большой жилой дом, а также ряд коммерческих организаций, не имеющих отношения к высокотехнологичному инновационному производству, просто арендующих площади у руководства Технопарка. Понятно, что такой подход к управлению территорией всего Академгородка обогатил бы тех, кто управлял бы этим процессом, но одновременно – убил бы саму его суть, заложенную его основателями, то, что делает новосибирский Академгородок – всемирно известным уникальным научным центром.
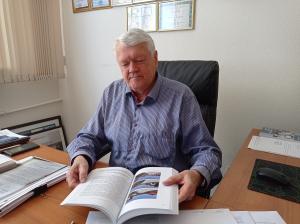 И эти попытки превратить земли Академгородка в рыночный актив, «пирог» для застройщиков продолжались все время, а мое противодействие – вызывало у заинтересованных лиц из представителей местного бизнеса не меньшее неудовольствие, чем сопротивление реформе РАН у чиновников ФАНО. Потому что «на кону» стоят огромные суммы. Особенно их раздражает то, что нам удалось добиться в 2014 году придания Академгородку статуса объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Это ставит концептуальный барьер по защите земель и неповторимого облика нашего Академгородка.
И эти попытки превратить земли Академгородка в рыночный актив, «пирог» для застройщиков продолжались все время, а мое противодействие – вызывало у заинтересованных лиц из представителей местного бизнеса не меньшее неудовольствие, чем сопротивление реформе РАН у чиновников ФАНО. Потому что «на кону» стоят огромные суммы. Особенно их раздражает то, что нам удалось добиться в 2014 году придания Академгородку статуса объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Это ставит концептуальный барьер по защите земель и неповторимого облика нашего Академгородка.
– Вы упомянули книгу воспоминаний, которая вышла из печати этой осенью. Расскажите, о чем она? Есть ли там глава, посвященная вашему уголовному делу?
– Эта книга – не совсем мемуары. Я не ставил целью рассказать именно о своей научной карьере, напротив, посвятил её удивительному феномену второй половины XX – начала XXI веков: возникновению и стремительному развитию академической науки на востоке нашей страны. Я постарался показать на примере нашего курса физического факультета НГУ, как работала Лаврентьевская система подготовки кадров для науки, на примере Института физики полупроводников и ряда других – как происходило образование и развитие ведущих институтов СО РАН. Ряд глав книги посвящены проблемам развития науки и университетского образования в наши дни. Как уже говорил, отдельный раздел посвящен губительной сути реформы РАН 2013 года и нашему противодействию этим процессам. А вот про уголовное дело, возбужденное против меня я в этой книге ничего не пишу, не хочу смешивать. Думаю, подробнее я расскажу эту историю в другой книге, которую я хочу написать, она будет посвящена судьбе председателей Сибирского отделения в разные периоды его истории.
– Можете рассказать об этом проекте?
– Скажу так, жизненные трудности и проблемы из-за своей принципиальной позиции по тем или иным вопросам – довольно традиционная история для руководителей Сибирского отделения. Сейчас мы отдаем дань уважения основателю и первому председателю СО АН СССР Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву, но забываем о том, что его последние годы жизни в Академгородке были совсем непростыми. Как позже вспоминала его вдова, «Михаил Алексеевич всю жизнь дрался за свою правоту и выигрывал, но в старости стал выигрывать реже». И кончилось это тем, что его, фактически, выжили из Академгородка, ему пришлось уехать в Москву. Гурий Иванович Марчук, который после руководства Сибирским отделением возглавил всю АН СССР, стал ее последним руководителем. И в 1991 году он единственный, кто голосовал против ее роспуска, он выступал за создание единой Академии СНГ, считая распад СССР временным процессом, который можно обернуть вспять. В результате, после 1991 года он был отстранен от руководства научной системой. Валентину Афанасьевичу Коптюгу выпало руководить Сибирским отделением в годы, которые теперь принято называть «черными» для отечественной науки, когда стоял вопрос о выживании и сохранении институтов Академии наук.
Чтобы понять всю фантасмагоричность того времени, приведу пример, о котором мне рассказывали ближайшие сотрудники Валентина Афанасьевича. В очередной раз он приехал в Москву (а он не вылезал из командировок – очень напряженных – где буквально выбивал ресурсы на зарплаты и обеспечение работы институтов СО РАН) в Министерство финансов и никак не мог попасть на прием к нужному чиновнику, бесплодно ожидая в приемной. Тогда Коптюг предпринял неординарный ход. Он позвонил в приемную генсека ООН Бутрос-Гали, с которым был лично знаком и попросил того оказать содействие. И только после звонка из ООН в правительство РФ Коптюгу удалось попасть на прием к нужному человеку.
Понятно, что все эти нервные и унизительные для крупного ученого события не могли не отразиться на его здоровье, я считаю, эта борьба за сохранение науки фактически убила Коптюга. Замечательный ученый Николай Леонтьевич Добрецов, возглавив СО РАН, был вынужден сосредоточиться не на развитии науки, а на дипломатических и административных маневрах с целью убедить руководство страны в значении науки и Сибирского отделения РАН в частности для развития России в целом. Сил и времени это отнимало массу, а результатов приносило мало. Так что, повторю, судьба председателей СО РАН, в том числе и моя – это довольно драматичная история, которая достойна отдельной книги.