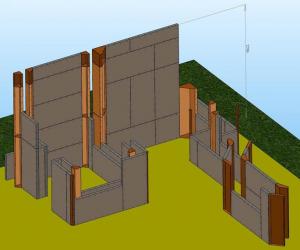Санкции на пользу России
Влияние санкций на российский бизнес преувеличено, считают западные СМИ. Большинство компаний вовсе не ощутили неудобств, а IT-сектор, к примеру, может даже извлечь из них выгоду. Но некоторые аналитики полагают, что толчок к развитию получат лишь крупные корпорации.
Санкции со стороны США должны были наказать Россию за ее позицию по украинскому вопросу, но в реальности некоторые российские бизнесмены могут даже извлечь из них выгоду, сообщает Bloomberg.
Санкции затронули несколько российских граждан и отечественных компаний. В общей сложности под них попали 19 компаний и 45 человек, близких, как полагают, к Владимиру Путину, хотя в отношении большинства из них санкции не имеют смысла. Им просто запрещено въезжать на территорию США и владеть там активами.
Впрочем, многие крупные представители европейского бизнеса заявили, что их экономические связи с Россией более тесные и глубокие, чем у американских предпринимателей. «Мы ведем друг с другом дела, а не политические игры», — передает The Wall Street Journal слова Кристофа де Маржери, главы нефтегазовой компании Total. Французский концерн участвует в геологоразведочных проектах в России стоимостью несколько миллиардов долларов.
«Санкции не приветствует никто, — заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в России. — Компании продолжают сотрудничать, и бизнес большинства из них был затронут лишь незначительно». По данным организаторов ПМЭФ, в этом году в форуме приняли участие 6500 человек, в том числе 1500 журналистов, в 2013 году участников было 6035 (из них 1245 журналистов).
Министр экономического развития Алексей Улюкаев на одной из сессий ПМЭФ заявил, что ответ России на санкции должен быть исключительно экономическим.
Чтобы привлечь инвесторов, Россия должна предложить им хороший уровень возврата на вложенный капитал и низкий уровень риска, сказал министр.
В связи с подписанием в четверг газового контракта с Китаем многие участники ПМЭФ были ободрены перспективой развития торговых отношений с Азией, сообщает Financial Times. «Я не вижу никаких проблем, — заявил Геннадий Тимченко, в марте попавший в санкционный список США. — Разворот в сторону Китая мне очень интересен, и я буду активно работать в этом направлении». В четверг бизнесмен объявил о покупке месторождения воды в Китае, продукция этого проекта, скорее всего, пойдет на китайский рынок.
В свою очередь, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев сказал, что нарастающее нежелание западных кредитных организаций сотрудничать с Россией открывает «фантастические возможности для выхода азиатских банков на российский рынок».
И хотя отрасли российской промышленности пока не сильно пострадали от запретов, политическая напряженность уже подталкивает Россию начать разработку собственных технологий для укрепления независимости.
Тем не менее российские компании финансового и технологического сектора уже испытывают на себе влияние санкций. Владимир Путин подписал закон о создании национальной платежной системы, которая должна стать местной альтернативой MasterCard и Visa. Все сотрудники государственных организаций — а их в России больше 20 миллионов — предположительно будут получать заработную плату на карты, поддерживающие национальную систему. Банки могут предложить эти карты и служащим частных компаний. Это означает, что спрос на пластиковые карты в России возрастет на 10% по сравнению с уже выпущенными 217 млн (по данным Центрального банка).
В конце апреля Владимир Путин заявил, что серверы крупных российских интернет-компаний нужно размещать на территории России, а также высказал предложение и западным представителям IT-сферы перенести из-за рубежа серверы с информацией о российских пользователях.
Недавно с похожей инициативой выступила и Бразилия.
Подобный шаг может стать точкой роста местных дата-центров и обеспечить преимущество тем российским IT-компаниям, чьи сервера уже расположены внутри страны.
Одним из примеров оставшихся в выигрыше может стать миллиардер Владимир Евтушенков. Его компания производит банковские карты со встроенными микрочипами. Ожидается, что спрос на них возрастет после начала активной разработки российской национальной платежной системы и осложнений в работе американских Visa и Master Card.
Даже без санкций россияне могут предпочесть отечественного производителя, поскольку многие из них опасаются, что в картах с иностранными микрочипами могут быть ошибки или что они используются для шпионажа. Озабоченность слежкой у жителей России и США общая.
Противостояние России и США также может ускорить развитие ГЛОНАСС — отечественного конкурента GPS. Вице-премьер Дмитрий Рогозин ранее заявил, что с 1 июня работа 11 станций GPS на территории России может быть приостановлена. По словам Рогозина, эти станции используются для усиления сигнала и могут быть отключены, если США не согласятся установить аналогичные станции ГЛОНАСС в Соединенных Штатах.
В то время как Space Exploration Technologies под руководством Илона Маска оказывает давление на правительство США для отказа от российских ракет, возрождение ГЛОНАСС может подстегнуть аэрокосмическую промышленность в стране, в том числе «Информационные спутниковые системы» и «Газпром космические системы».
Однако не все согласны с мнением о пользе санкций. «Думаю, что говорить о положительном влиянии санкций на российскую IT-индустрию в целом не приходится, — рассказал «Газете.Ru» главный аналитик РАЭК Карен Казарян. — Для этого должен существовать нормальный деловой климат внутри страны, а его почти нет. Сфера IT сейчас движется практически только в одном направлении — в сторону ужесточения регулирования».
По мнению эксперта, молодые компании и стартапы вряд ли будут активно развиваться в ближайшее время. Молодым предпринимателям при прочих равных проще выбрать другую страну для ведения бизнеса, особенно если учесть, что многие с самого начала нацеливаются на глобальный рынок.
Казарян считает, что от санкций могут выиграть разве что крупные корпорации, поскольку большинство игроков может не справиться с возросшим спросом, однако все развитие индустрии показывает, что движущая сила прогресса — небольшие фирмы.
- Подробнее о Санкции на пользу России
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии