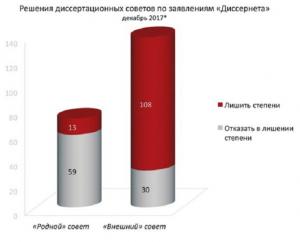О том, что мечтают найти археологи в Крыму, о рисунках в склепе, буднях исследователей и масштабах Крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН, которая идет с марта 2017 года, рассказал ее руководитель, доктор исторических наук Сергей Внуков.
— Что отличает крымскую археологию от археологии остальной России?
— В целом Крым отличает огромная пестрота памятников. Здесь есть все: от палеолита до начала XX века, и Византия, и Золотая Орда, и кочевники, которые были в южнорусских степях. Разве что нет собственно славяно-русской археологии. Эта пестрота требует широкого кругозора от ученых, но в то же время нужны и узкие специалисты.
— Есть артефакты, которые археологам, работающим в Крыму, больше всего хочется найти? Какие-то особенные предметы гордости.
— Я могу судить об античности. В античной археологии всегда очень хочется найти надписи, лапидарные памятники, потому что у нас катастрофическая нехватка письменных источников. Древние авторы эту дальнюю окраину не очень освещали. И каждая надпись, даже плохо сохранившаяся, что-то добавляет: новые имена, события. Обычно они во фрагментах. Это ставит находки в историческую канву, оно наполняется жизнью.
Вообще все археологи всегда мечтают найти датирующий материал: монеты и еще несколько категорий вещей позволяют нам продатировать слои. Это может быть совершенная ерунда с точки зрения обывателя, но для нас это ценно.
Например, для античного времени это керамические клейма. В Греции эпохи эллинизма была система контроля за качеством изготавливаемой тары. Были введены стандарты, специальные чиновники следили за тем, чтобы сосуды им соответствовали. Форму для сосудов тоже специально вырабатывали, их делали известные скульпторы. Мраморный образец сосуда стоял на рыночной площади. Эта форма сосуда — фирменный знак, по которому узнавали продукцию этого центра. Как сейчас, вы же отличите пивную бутылку от бутылки шампанского? Вы знаете, что внутри, даже попробовав. И все знали, что в сосудах такой формы — одно вино, в сосудах этой формы — другое. И эти сосуды подделывали, наливали туда бормотуху. Чтобы верифицировать сосуды, чиновники ставили на них клейма до обжига — удостоверение, что сосуд соответствует стандартам. Чиновники исполняли должность один год. И удается проследить с точностью до десятилетия, когда тот или иной чиновник занимал свою должность. Поэтому клейма очень помогают для датировок. А для обывателя — это всего лишь черепок с какими-то буквами.
 Вы знаете, археологи не любят золото. Ваши коллеги это так раздувают: нашел бляшечку, а пишут, что целый клад. В Керчи есть городище Мирмекий. Лет 15 назад там нашли клад кизикинов — это монеты города Кизика, которые были международной валютой. В найденном сосуде было 99 монет. Бедного начальника экспедиции Служба безопасности Украины замучила: несколько лет его таскали, спрашивали, куда сотую дел.
Вы знаете, археологи не любят золото. Ваши коллеги это так раздувают: нашел бляшечку, а пишут, что целый клад. В Керчи есть городище Мирмекий. Лет 15 назад там нашли клад кизикинов — это монеты города Кизика, которые были международной валютой. В найденном сосуде было 99 монет. Бедного начальника экспедиции Служба безопасности Украины замучила: несколько лет его таскали, спрашивали, куда сотую дел.
— Сколько еще мест в Крыму, где пока не идут раскопки, но которые интересны археологам?
— Ученым интересно все. Кому-то интересно свое поселение, которое он «облизывает» десятилетиями, но зато получает детали, которые невозможно получить, когда копается быстро. У меня тоже есть такой памятник, я его копаю уже 35 лет и могу датировать слои с точностью до 10 лет. За 35 лет мы раскопали всего 2,5 тысячи метров.
В Горном Крыму есть совершенно уникальные, фантастические памятники, которые совершенно меняют наше представление о варварском населении Крыма в эпоху позднего эллинизма и формировании позднескифской культуры.
Об этих памятниках знали, но они почти не копались. Сначала туда пришли грабители, там города стоят в лесах. На научных конференциях об этом уже говорится, есть публикации. Там нашли, например, расписные варварские терракоты III века до н.э., находят боспорские склепы — правда, разграбленные.
Крым — это место совершенно непредсказуемое. Когда мы начинали работать на трассе, мы не ожидали, что будут такие памятники, такой результат.
— Давайте перейдем к Крымской новостроечной экспедиции. Чем она примечательна?
— Аналогов этим работам в Крыму не было. Да и, в общем-то, на территории России экспедиций такого масштаба за всю историю было немного. Фронт работ — до 300 км, по всей длине строящейся трассы «Таврида». Мы фактически за этот год, может быть еще с началом 2018 года, будем должны сдать всю трассу. В ближайшее время мы идем на Большой Севастополь. Более 70 памятников исследовалось и исследуется. Только на первом этапе (строительства трассы. Всего их семь — прим. «Чердака») раскопано порядка 40 гектаров. Исследованная площадь будет измеряться сотнями гектаров.
На всех памятниках работало около 10 отрядов, до 700 человек в разгар работ. Для работ привлечены не только московские исследователи, но и коллеги из Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), из Новосибирского отделения РАН, из Института археологии имени Халикова Академии наук Татарстана и местные специалисты из Керченского историко-археологического музея, Института археологии Крыма РАН, музея-заповедника «Неаполь Скифский».
Тут работали и работают специалисты самого разного профиля. В первую очередь, античники — античности больше всего; специалисты по каменному веку, по средневековой, скифо-сарматской археологии. В работе над находками участвуют и антропологи, палеозоологи изучают кости, почвоведы исследуют почвообразование, палеорельеф; наконец, реставраторы — вплоть до реставраторов из Эрмитажа, которые закрепляли рисунки, обнаруженные в одном из склепов.
— С какими археологическими экспедициями можно сравнить Крымскую?
— По масштабам работ, по привлеченным специалистам мне в голову приходит только Южно-Туркменская археологическая экспедиция (1946−1968 гг.), работавшая с конца 40-х годов на строительстве Каракумского канала. За последние годы наиболее крупная экспедиция была в зоне затопления Богучанской ГЭС (2008-2012 года).
— И как вам руководить такой масштабной экспедиций?
— Ну, как, сложно! Приходится все отлаживать в процессе работы. Я всю жизнь проработал в академических экспедициях. Для меня это совершенно новая сфера. Приходится учиться. Тут и проблема в растянутости отрядов — собрать всех начальников отрядов практически невозможно, потому что полдня ехать в один конец. Туда-обратно — это уже 12 часов.
Бывают сложности с набором рабочих, бывают задержки с зарплатами. Сейчас еще погода ничего: пока дождей нет и ветер не очень сильный, и не очень холодно, а летом жара — 35-38 градусов, да еще ветер — это очень тяжело. И люди уходили.
— Как археологи узнали, где именно на пути строящейся трассы стоит копать?
— Самое первое, что мы делали — это археологические разведки, чтобы определить точное местоположение и границы известных памятников археологии. Все эти 300 км несколько отрядов с сентября по декабрь прошлого года прошли пешком в поисках новых памятников. Более половины памятников, которые мы откопали — это новые памятники.
— А как проходит такая разведка?
— Есть признаки, по которым мы можем предполагать наличие памятников: определенный рельеф, источники воды. Можно судить по подъемному материалу (то есть артефактам, которые находятся на поверхности разрушенного культурного слоя). Почти вся территория распахана под посадки, на поверхности могут попадаться черепки. Где есть подозрение на памятники — там выкапываются контрольные шурфы в поисках культурного слоя. Если есть находки, значит, это памятник.
Многое можно узнать из архивов. Например, памятники XVIII—XIX веков есть на картах, и наиболее крупные курганы хорошо на них отмечены. Есть материалы старых раскопок.
— Можете привести пример старых раскопок?
— Конечно. Мы знали, что в Бахчисарайском районе есть курган, который попадает в зону строительства. Его уже копали, и там остался не законсервированным каменный ящик эпохи бронзы. Мы нашли этот ящик. Но во время работ нашли еще несколько погребений, которые тогда, 30 лет назад, не были обнаружены.
— Что именно значит «законсервированный»?
— Некоторые объекты во время раскопок можно не разбирать. Их лучше засыпать — законсервировать. Тогда у исследователей в будущем будет возможность к ним вернуться.
— Есть специальные археологические карты, на которых отмечены объекты?
— Единой карты нет. Есть глобальный проект археологической карты России, но до Крыма она пока не добралась. Это будет стоить огромного труда и денег, потому что Крым напичкан так, как никакой другой регион. Только курганов в районе Керчи несколько тысяч.
Каждый курган нужно обнаружить, если он распахивался или копался когда-то в XIX веке. Кроме грабителей, наша проблема — это исследователи XVIII — XIX веков, которые мало чем отличались от современных грабителей.
Их задача была дорыться до центрального погребения, вытащить из него все, что можно, практически без фиксации и передать это в музей или коллекции. Но такие раскопки обычно вскрывали только центральное погребение, а то, что вокруг, их мало интересовало. Что-то нам достается, но сливки уже сняты. Таких курганов здесь много. У таких курганов сверху запАдина, воронка — это значит, что центр уже расковыряли.
— А как вообще выглядит работа археологов в этой экспедиции?
— Работа идет по стандартной методике: разбиваются квадраты, если это площадные раскопки, то есть поселения. Курганы копаются специальным образом с сохранением профилей, по которым можно проследить, как образовывалась насыпь. Ведь многие курганы не одновременно насыпались: до 3-4 досыпок. Сначала маленький курганчик, потом кто-то решит сэкономить силы и положит в него своего покойничка и присыпет, и такое бывает несколько раз.
 В ходе работ используются и металлоискатели, и георадары. Но все эти методы не очень надежные, очень много помех, ведь они показывают аномалии. Может быть, это просто свойства почвы или провалы. Широко используются методы фотограмметрии. Съемка с дронов очень помогает представить общую картину. Широко используется техника для удаления отвалов, пахотных слоев. Без нее с такими площадями не справиться. И традиционно лопата, нож, веник так и остаются главным орудием археолога.
В ходе работ используются и металлоискатели, и георадары. Но все эти методы не очень надежные, очень много помех, ведь они показывают аномалии. Может быть, это просто свойства почвы или провалы. Широко используются методы фотограмметрии. Съемка с дронов очень помогает представить общую картину. Широко используется техника для удаления отвалов, пахотных слоев. Без нее с такими площадями не справиться. И традиционно лопата, нож, веник так и остаются главным орудием археолога.
— Что делают археологи после того, как работа на раскопе завершается?
— Мы должны полностью исследовать и разобрать все культурные остатки, слои, конструкции. И сдаем территорию дорожникам.
— Говорят, летом была интересная находка в одном из курганов.
— Да, это раскопки кургана Госпитальный в Керчи. Его современная высота около 8 метров, первоначально он был выше. Курган был изуродован грабителями в древности, в Средние века в нем копали ямы, во время Великой Отечественной войны там были огневые позиции. Это не суперкурган по высоте, но самый большой курган, раскопанный в Крыму за последние 100-150 лет.
У нас были сомнения насчет него, но работы были не напрасными. Курган насыпался в два приема. Первоначально был сооружен относительно небольшой курган, под которым похоронили мальчика с набором спортивных атрибутов: сосуды для масла, стригили и набор игральных костей. Погребение оказалось неграбленным. Там были остатки деревянного саркофага, великолепный расписной сосуд. Второе погребение, видимо, женское, было разграблено в древности. При этих двух погребениях в насыпи были открыты алтари — это просто две каменные плиты, лежащие горизонтально. Видимо, там совершались какие-то поминальные обряды, и посуду оставляли там же. Там великолепная черно-лаковая посуда, расписная керамика.
К насыпи этого кургана был пристроен огромный склеп. Его длина вместе с коридором была больше 20 метров. И вход выходил наружу, за пределы насыпи. Склеп был несколько раз разграблен: и в поздней античности, и в Средние века. В Средние века кто-то, может быть пастухи, использовали его в качестве временного убежища. Там был сложен очажок. Когда обитателям склепа было нечего делать, они рисовали на стенах. Первоначально стены склепа были великолепно оштукатурены тонкой штукатуркой. Его «обитатели» рисовали на стенах охрой: всадников, лучников, пару всадников с копьями, корабли. Рисунки напоминают детские, но это мог нарисовать и взрослый. Есть еще и рисунки сажей. Попытаемся их продатировать: там довольно детально нарисовано оружие, некоторые атрибуты, по которым можно определить, когда они были сделаны. Затем склеп был заброшен. Позже грабители залезли туда, но брать было уже нечего. Они посидели, выпили амфору вина, и так там ее и оставили. Нам в подарок.
Алиса Веселкова