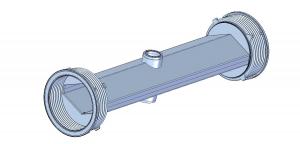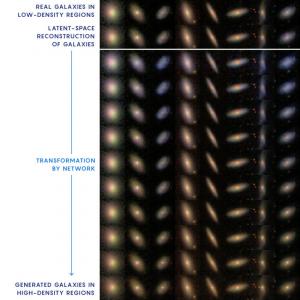Пожалуй, нет в естествознании более противоречивой фигуры, чем знаменитый французский натуралист Жорж Леопольд де Кювье (1769 – 1832). Его талант естествоиспытателя бесспорен, его научные заслуги очевидны. Но вместе с тем современные эволюционисты никак не могут «простить» ему нападки на Жана Батиста Ламарка и его последователей. Впрочем, эти академические баталии стали уже предметом истории. Самый большой вопрос до сих пор вызывает теория Кювье о переворотах на поверхности Земли, якобы оказавшая «роковое влияние» на развитие эволюционистских взглядов. Не удивительно, что в советской научно-популярной литературе ее обозначали как «реакционную теорию», призванную-де спасти «догму» постоянства видов. Иными словами, при всех своих заслугах и открытиях, Кювье стоит несколько особняком от тех классиков, с которыми принято связывать научный прогресс. Поэтому его идейное наследие принимается с оговорками. Мол, он великий естествоиспытатель, спору нет, но все же есть у него и «темные пятна».
Я не погрешу против истины, если скажу, что подобные оценки не содержат ничего строго научного. По большому счету, здесь мы подмешиваем идеологию. Наверное, бессмысленно делить теории на «прогрессивные» и «реакционные». Куда правильнее оценить их логическую стройность и согласованность с фактами. А вот по этим пунктам с Кювье не поспоришь: с логикой и фактами у него было всё в полном порядке. Я бы даже сказал, что по этой части его труды выглядят просто образцово.
Есть мнение, будто Кювье выразил идею земных переворотов под влиянием духа своего времени, поскольку жил он и творил в эпоху революционных потрясений. Дескать, революционная Франция породила соответствующий взгляд на историю Земли. В наше время такие релятивистские трактовки науки входят в моду. Однако если мы внимательно ознакомимся с трудами классика, то станет совершенно понятно, что дух времени тут совсем не при чем. Представленные им факты красноречиво свидетельствовали о неординарных событиях прошлого. Скорее всего, дух времени сказался на как раз отрицании катастрофизма, поскольку с определенных пор человечество уже не желало помышлять о земных переворотах. И именно поэтому теория Кювье вызвала к себе столь неоднозначное отношение.
Собственно, ученый и не стремился к тому, чтобы шокировать общественность рассуждениями о глобальных катастрофах. Свою главную задачу он видел в том, чтобы «распознать, каким животным принадлежат остатки костей, которыми изобилуют поверхностные слои земли». Мысль о земных переворотах напрашивалась сама собой, как неизбежный вывод из фактов. Ведь когда вы находите в земле целую груду окаменевших костей – можно ли сказать, что они накопились просто так, в силу естественной смерти живых существ? Очевидно, что подобные скопления свидетельствуют о неординарном событии прошлого. Конкретно – о массовой и скоротечной гибели. Для Кювье окаменевшие останки – «памятники былых переворотов». Задачу ученого-натуралиста он видит в том, чтобы «дешифровать их смысл».
По большому счету, именно Кювье стал первопроходцем в этих вопросах. Чтобы докопаться до истины и не зайти в тупик, ему пришлось (по его же признанию) «подготовиться к этим исследованиям длительным изучением существующих ныне животных». Только всеобъемлющий обзор современного мира животных «мог придать доказательность добытым мною данным о древнем животном царстве», - пишет он в своем основополагающем труде «Рассуждения о переворотах на поверхности земного шара». Таким образом, интерес к анатомии животных смыкался в его исследованиях с вопросами физической истории Земли. Он осознает важность своей работы для естествознания, сопоставляя значение своего труда со значением работ Ньютона для физики.
Можно, конечно, заподозрить классика в нескромности, хотя, скорее всего, он намекает на характер выбранной им методологии. Ньютон создал точную науку о природе, используя математический метод. Кювье берет подход Ньютона за образец, стремясь к такой же строгости применительно к наукам о жизни и о прошлом Земли. Его предшественники (например, Жорж-Луи Леклерк де Бюффон) позволяли себе фантазировать о таких вещах, подчас смешивая науку с натурфилософией и метафизикой, и даже не чураясь художественного воображения. Кювье дает понять, что его построения о земных переворотах – результат кропотливого изучения конкретных фактов. Огромного количества фактов! Чтобы подчеркнуть свою дистанцию от метафизики и натурфилософии, он называл себя «ординарным натуралистом», то есть исследователем, работающим в четких границах, имеющихся в наличии эмпирических данных. Именно так он понимал сугубо научный подход к исследуемым темам. И нам трудно с ним не согласиться.
Земля, утверждает Кювье, хранит под своей поверхностью многочисленные следы глобальных переворотов. И ровные участки, и холмы таят в своих глубинах «почти все бесчисленные произведения моря». «Иногда раковины столь многочисленны, - пишет ученый, - что они одни составляют всю массу почвы; они поднимаются на высоту, превышающую уровень всех морей, на высоту, на какую никакое море не может быть поднято ныне действующими силами».
По словам Кювье, все части света, все континенты представляют такое явление. Для него нет никаких сомнений в том, что эти раковины были отложены морем. Этот вывод следует из первых же раскопок, из «самого поверхностного наблюдения».
Как мы понимаем, для верующего человека указанное нагромождение древних раковин есть наглядное свидетельство Всемирного потопа. Однако Кювье видел историю иначе. Тщательно изучая эти слои (точнее, останки живых существ), он устанавливает последовательные вариации. Слои не копируют друг друга. Чем они древнее, тем более однообразен их состав. И наоборот. Отсюда Кювье делает вывод, что в истории Земли катастрофические события происходили неоднократно. «Случалось много раз, - пишет он, - что участки, покинутые морем, снова им покрывались». По его словам, имели место последовательные вторжения и отступления моря, окончательным результатом которых стало «всеобщее понижение уровня».
Принципиально важный тезис, отстаиваемый Кювье – утверждение насчет внезапности многих катастрофических событий прошлого, особенно последнего из них. Красноречивым свидетельством тому, на его взгляд, являются замерзшие трупы крупных четвероногих, сохранившиеся вместе с кожей, шерстью и мясом. «Если бы они не замерзли тотчас после того, как были убиты, гниение разложило бы их», - заключает ученый. С другой стороны, вечная мерзлота, считает он, не распространялась раньше на те места, где погибшие животные были захвачены ею, «ибо они не могли бы жить при такой температуре». Отсюда делается вывод, что один и тот же процесс и погубил животных, и оледенил страну. Причем, событие это произошло внезапно, моментально, «без всякой постепенности». Соответственно, то, что доказано для этой последней катастрофы, не менее доказательно и для предшествовавших катастроф, уверен Кювье. «Разрывы, поднятия, опрокидывания более древних слоев не оставляют сомнения в том, что только внезапные и бурные причины могли привести их в то состояние, в котором мы их видим теперь», - пишет он.
Еще один важный тезис его теории: отсутствие жизни на планете в самый ранний период. Это утверждение вытекает из того факта, что в самых нижних слоях вообще не содержится и следа живых существ. Он относит сюда «первозданные горы», перерезывающие наши материки в различных направлениях. Но и здесь, как выражается ученый, наш глаз видит «знаки бурного процесса», их приподнявшего. И эти знаки становятся всё более очевидными по мере приближения. Гранит, из которого состоят горные кряжи, - это «самая древняя из всех пород», которая, вполне возможно, изначально находилась в жидком состоянии. Жизнь, зародившаяся в далекие времена, боролась с господствовавшей до того «косной природой».
По мнению Кювье, в настоящее время ход природы изменился, и тех сил, которыми она пользуется теперь, совершенно недостаточно для того, чтобы произвести прежнюю работу. Какие же силы, в таком случае, приводили когда-то к столь колоссальным изменениям? Приблизиться к ответу, считал ученый, нам помогут ископаемые кости четвероногих. Наличие их останков в слоях земной коры говорит о том, что-либо сам пласт, их содержащий, был на суше, либо суша была вблизи. Их исчезновение, в свою очередь, свидетельствует, что пласт был затоплен.
Кювье рассматривает это как подтверждение факта «повторных вторжений моря». Причем, последнее вторжение по геологическим меркам произошло не так давно – примерно пять-шесть тысяч лет назад. Катастрофа носила планетарный характер, однако она пощадила небольшое количество особей, впоследствии распространившихся на вновь образованной суше.
Именно этот тезис Кювье о периодическом воздействии на поверхность планеты неких особых сил, не наблюдаемых ныне, стала оспаривать «прогрессивная» геология, взявшая на вооружение принцип актуализма. Со временем ссылки на всемирные катастрофы превратились в моветон. Но, несмотря на это, катастрофизм в различных «вариациях» закрепился в науках о Земле. Например, когда мы сегодня говорим о ледниковых периодах, необходимо понимать, что в свое время эта теория воспринималась как некая разновидность катастрофизма (ее создатель – Жан Луи Агассис – был последователем Кювье). Тем не менее, идея ледниковых периодов прочно «прижилась» в современной геологии, хотя, согласимся, что картина грандиозных оледенений планеты кажется не менее фантастичной, чем картина Всемирного потопа.
Олег Носков