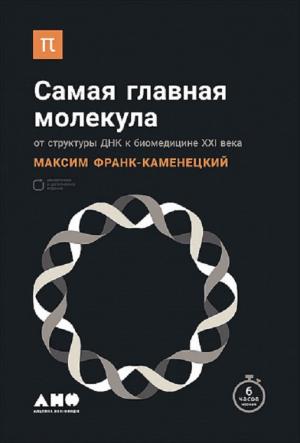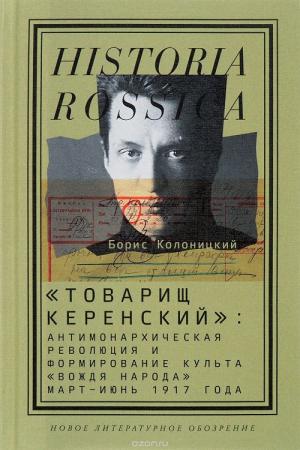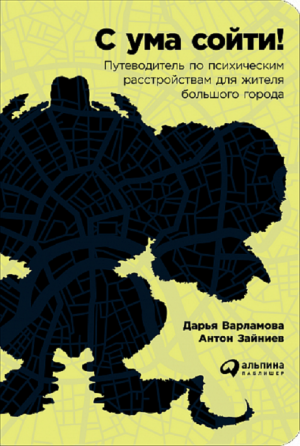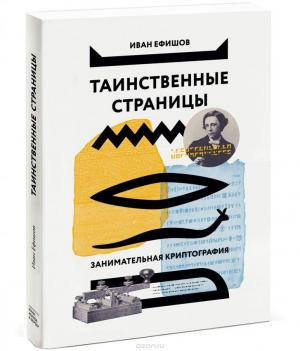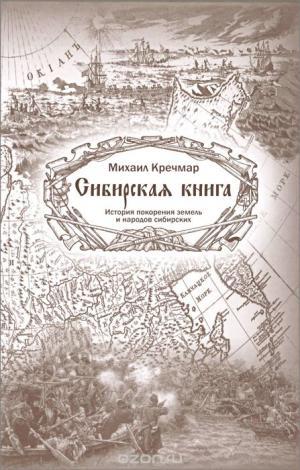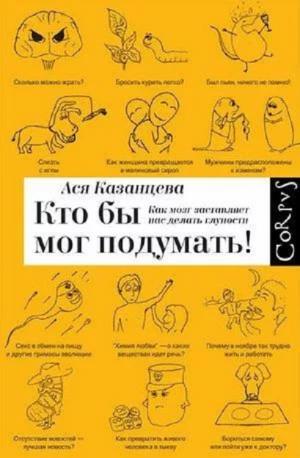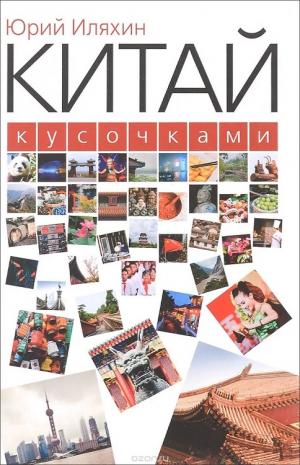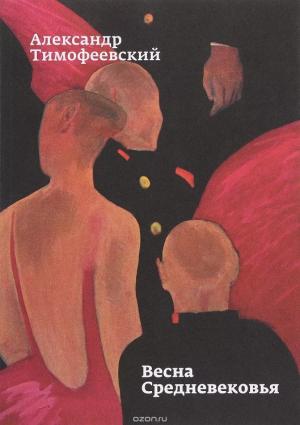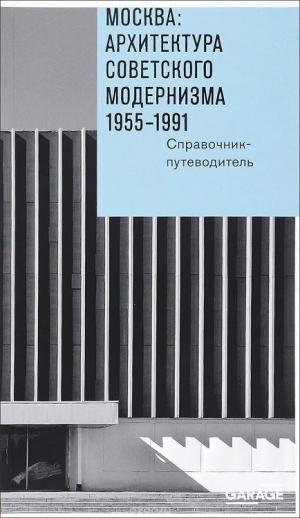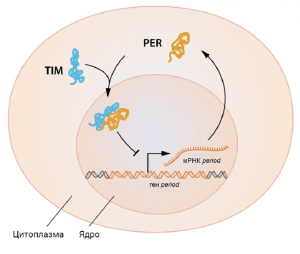Орхидеи в вечной мерзлоте
Как показали результаты летней экспедиции, флора затерянного в дельте Лены острова Самойловского оказалась гораздо богаче, чем считалось ранее. Там отлично чувствуют себя как болотные растения, так и привыкшие к засушливым пескам, а на окраине даже встречаются орхидеи. Полученные данные могут изменить представления о происхождении этого и ему подобных островов, их динамике и скорректировать прогнозы развития Арктики.
В этом году к проекту «Лена-дельта» присоединились новосибирские почвоведы и ботаники. От Центрального сибирского ботанического сада СО РАН там побывал главный научный сотрудник доктор биологических наук Николай Николаевич Лащинский.
«В 2016 году Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука поставил задачу развёртывания на о. Самойловском комплексных исследований с привлечением максимального количества российских ученых. Появилась необходимость в работе, которая органично сочетала бы подходы самых разных научных направлений: палеонтологических, геоморфологических, геофизических, почвоведческих, ботанических,— рассказывает учёный. — Чем интересна ботаническая часть? Растения, в отличие от животных, всегда сидят на одном месте. Поскольку они не имеют возможности убежать в случае плохих условий, им приходится как-то приспосабливаться. Соответственно, они могут рассматриваться как индикаторы — причем не только сиюминутных условий, а представлять усредненные данные за ряд лет, — рассказывает Николай Николаевич.
— То есть изучение растительного покрова интересно не только само по себе, но и тем, что через сочетание видов и находки каких-то новых, мы можем сказать, какие условия здесь есть или какие тенденции просматриваются.
В некоторых случаях простое наблюдение и описание растительных сообществ может заменить дорогостоящие геофизические исследования и быть даже более точным».
В прошлые годы была сделана детальная аэрофотосъемка Самойловского с применением беспилотных аппаратов. Так удалось получить данные, которые позволили посмотреть структуру покрова острова и рельеф его поверхности с точностью до 5-20 сантиметров. Задача, которая стояла пред Николаем Лащинским, — интерпретировать эти данные в терминах биоразнообразия. Грубо говоря, соотнести цветные пятна на карте с теми растениями, которые их составляют. Это вызвало необходимость полевых исследований, которые и были проведены летом.
Остров Самойловский очень маленький (всего два на два км) и в геологическом отношении очень молодой. По разным оценкам, его возраст составляет от 3,5 до 4,5 тысяч лет. Некоторые исследования флоры этого острова уже проводились и раньше, немецкими биологами. Однако в основном они ограничивались интерпретацией космических снимков — разрешением 30 метров на пиксель, что позволяло только в самом грубом приближении описать его растительность.
«Более детальное обследование выявило отличия с ранее сделанными предположениями, и очень сильные. Так, когда я смотрел на снимки, я предполагал, что остров на 90 % заболочен. Оказалось, не совсем так. Большей частью это хорошо дренированная территория с минеральными почвами и тундрой, что существенно меняет представление о происхождении острова, его развитии и о дальнейших перспективах», — говорит Николай Лащинский.
Почва представляет собой область взаимодействия живого и неживого. Она отражает, что происходило с природой за последнюю пару тысяч лет. Если бы на Самойловском было полигональное болото, какие наблюдаются в других местах Арктики, его верхний активный слой, который оттаивает, состоял бы практически целиком из торфа — остатков полуперегнивших растений. Но там торфяной слой занимает не более двух-трех сантиметров, а иногда с поверхности сразу начинаются песчаные грунты. Это говорит о том, что растительный материал очень быстро перегнивает, минерализуется.
Однако всё же покров острова очень мозаичный. Он включает в себя и болотистые участки, и довольно много озёрных, сильно обводненных. «Удивительным было то, что, при огромном количестве маленьких озерков и переувлажненных мест, они оказались очень разными по своей динамике. В некоторых действительно происходит накопление органики, и видно, что на дне собирается большой слой полуперегнивших растительных остатков. А в других мы видим просто песчаное дно с нулевым количеством органических веществ. Причем такие озерки могут быть расположены совсем рядом, на расстоянии пяти-семи метров друг от друга», — отмечает исследователь.
 Эти данные показывают: при кажущейся простоте острова, его развитие идет несколькими путями, на него влияют совершенно разные природные факторы, что выливается в достаточно заметное разнообразие местообитаний, позволяющих жить самым разным растениям с разными экологическими требованиями. Например, по омываемой Леной периферии острова, для которой характерны довольно крутые обрывы на песчаных почвах, можно увидеть небольшие участки выдувания, эолового волнистого рельефа с образованием микродюн. В этой зоне оказались необычные и очень богатые типы тундр — до 30 видов сосудистых (цветковых) растений на 100 квадратных метров (обычно в тундрах их всего 10—12 видов).
Эти данные показывают: при кажущейся простоте острова, его развитие идет несколькими путями, на него влияют совершенно разные природные факторы, что выливается в достаточно заметное разнообразие местообитаний, позволяющих жить самым разным растениям с разными экологическими требованиями. Например, по омываемой Леной периферии острова, для которой характерны довольно крутые обрывы на песчаных почвах, можно увидеть небольшие участки выдувания, эолового волнистого рельефа с образованием микродюн. В этой зоне оказались необычные и очень богатые типы тундр — до 30 видов сосудистых (цветковых) растений на 100 квадратных метров (обычно в тундрах их всего 10—12 видов).
«Мхи и лишайники требуют специалиста особой квалификации, поэтому сейчас сказать о состоянии разнообразии этих групп на Самойловском я ничего не могу. А высшие сосудистые уже можно предварительно оценить. Нами собран большой гербарий, он сейчас как раз находится на стадии определения, уточнения, — рассказывает Николай Лащинский. — Предварительно, по самым грубым оценкам, можно сказать, что на территории острова у нас имеется около 120-130 видов цветковых растений».
Как раз в окраинной зоне богатых тундр часто встречается единственная орхидея, живущая в этих, необычных для орхидей, условиях. Именно она является очень чутким индикатором своеобразия условий — каких именно, пока только предстоит выяснить. Здесь могут помочь геологи и почвоведы, потому то есть ряд гипотез и предположений, для проверки которых нужны детальные анализы грунта.
 Почему важно изучать маленький остров Самойловский? Подобных островов в дельте Лены достаточно. Это крупнейшая дельта в Арктике и одна крупнейших в мире. Ее познание проливает свет на очень многие вопросы формирования арктических побережий, современного развития природы Севера, и того, как оно будет происходить в дальнейшем.
Почему важно изучать маленький остров Самойловский? Подобных островов в дельте Лены достаточно. Это крупнейшая дельта в Арктике и одна крупнейших в мире. Ее познание проливает свет на очень многие вопросы формирования арктических побережий, современного развития природы Севера, и того, как оно будет происходить в дальнейшем.
Кроме того, есть и практический аспект. Дельта Лены очень изменчива, и, особенно в связи с планами активизации Северного морского пути, крайне важно знать динамику этих маленьких островов: где они появляются, насколько живучи, устойчивы, как быстро исчезают, какая растительность их закрепляет, что делает их стабильными, а что нестабильными, и так далее. На большую часть этих вопросов можно ответить с помощью исследования одного модельного острова, которым вполне может быть Самойловский.
«Конечно, в дельте Лены есть и другие острова с гораздо более сложной и длительной историей, — говорит ученый. — Я думаю, что проект на Самойловском не остановится. Мы сделали маленький задел, посетив совместно с геологами и палеонтологами ряд участков и на коренном берегу Лены, и на соседних островах, где имеются выходы коренных горных пород».
Поскольку дельта Лены — это очень динамичное место, острова живут и умирают. Помимо Самойловского, появившегося всего 4-4,5 тыс. лет назад, там сейчас есть острова возрастом 20-130 тыс. лет.
Во-первых, это позволит пролить свет на эмиссию парниковых газов в Арктике. В северных широтах, особенно на Северо-Востоке России, есть отложения, называемые ледовым комплексом или едомой (на Самойловском они отсутствуют, зато отлично развиты на соседнем острове Курунгнах). Помимо того, что в них содержатся гигантские ледяные жилы, они обогащены гумусом — органическим веществом. По ряду прогнозных оценок, среднее содержание этого вещества там может доходить до 2 %. Когда едома размораживаются, содержащаяся в ней органика поедается микроорганизмами. При этом выделяется либо метан, либо углекислый газ. Это усиливает парниковый эффект и вызывает дальнейшее протаивание, что снова оборачивается выбросами газов. Так по кругу идёт самоускоряющийся процесс деградации мерзлоты.
Однако до сих пор мало внимания уделялось тому, что при оттаивании едомы на ее поверхности наблюдается совершенно другой растительный покров. Вместо привычных мхов, кустарников, карликовых растений вырастают крупные злаки высотой до 30—40 см, образуя луга – красивые, зеленые, яркие, достаточно высокопродутивные. Освободившиеся в результате деятельности микробов минеральные вещества играют роль некого удобрения, чем пользуются «пришедшие» сюда растения. Они для построения своего организма поглощают СО2 из воздуха. Выражаясь иными словами, происходит секвестирование углерода — то есть запасание его в живых организмах.
«Очень может быть, что эта составляющая невероятно мощная, и она снижает или вообще нивелирует эффект выброса СО2 в атмосферу при таянии едомы. Это кардинально меняет роль едомы в изменении климата», — говорит Николай Лащинский.
С этими явлениями даже связана одна гипотеза (пока находящаяся на стадии предположения и никоим образом не подтверждённая): по тем или иным причинам в ледниковые и межледниковые эпохи всегда существовали места, где мерзлота таяла — в долинах рек, по южным склонам. Логично предположить, что там, как и сейчас, развивалась злаковая растительность. Если так, это снимает противоречие между очень низкой продуктивностью тундры и тем огромным количеством костей мамонтов и прочих крупных млекопитающих, которые в этих местах находят. Возможно, они как раз и были пастбищами, на которых крупные животные находили себе достаточное пропитание.
Во-вторых, изучение соседних островов необходимо и для того, чтобы ученые могли, сравнивая с ними Самойловский, реконструировать путь развития Арктики. Логично предположить, что острова дельты Лены развиваются по сходному сценарию. Соответственно, на более старом острове все процессы зашли намного дальше, а более молодому многие из них только предстоит пережить.
 «Если мы зациклимся на одном Самойловском, единственный путь — посидеть там 1 000 лет и посмотреть, что произойдет. Но вместо этого мы можем посетить 5—15 островов в сходных условиях, каждый из них имеет свои стартовые позиции, свою длительность развития. Таким образом, из ряда разобщенных участков мы можем составить единый временной ряд. Это позволит нам — разумеется, с некоторой степенью теоретизирования — достаточно быстро восстановить порядок развития за очень большой период», — отмечает Николай Лащинский.
«Если мы зациклимся на одном Самойловском, единственный путь — посидеть там 1 000 лет и посмотреть, что произойдет. Но вместо этого мы можем посетить 5—15 островов в сходных условиях, каждый из них имеет свои стартовые позиции, свою длительность развития. Таким образом, из ряда разобщенных участков мы можем составить единый временной ряд. Это позволит нам — разумеется, с некоторой степенью теоретизирования — достаточно быстро восстановить порядок развития за очень большой период», — отмечает Николай Лащинский.
Учёный отмечает, что на Самойловском созданы очень хорошие условия для исследований, что не может не привлекать: «Обычно в таких отдаленных местах экспедиция работает в экстремальных условиях, что ограничивает количество и качество получаемых данных. Здесь же есть прекрасная станция с возможностью первичной обработки данных, с наличием интернета. Это привлекает исследователей многих направлений из многих научных организаций».
Интеграционный проект «Интегральная характеристика криолитозоны по данным дистанционного зондирования, геолого-геофизических, геоботанических и почвенных исследований, проводимых на базе НИС о. Самойловский», объединяет четыре института Сибирского отделения (ИНГГ СО РАН, ЦСБС СО РАН, Институт почвоведения и агрохимии СО РАН и Институт физики им. Л.В. Киренского КНЦ СО РАН, он рассчитан на три года.
Перед Николаем Лащинским стоит задача — к началу следующего лета сделать геоботаническую карту Самойловского. В ходе последующих полевых сезонов ученые планируют посетить места острова, в которых не бывали ранее, и проверить, насколько корректно карта их описывает.
Исследователи надеются, что итоговая крупномасштабная карта Самойловского позволит не только оценить биоразнообразие флоры, но и найти связь между геологическими, геофизическими, почвенными параметрами острова и параметрами растительности. Кроме того планируется продолжить изучение эмиссии парниковых газов из едомы на Куругнахе и соседних островах.
Диана Хомякова
Фото предоставлено Алексеем Фаге и Николаем Лащинским
- Подробнее о Орхидеи в вечной мерзлоте
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии