Далеко не все представители отечественной научной элиты восприняли крах Российской империи в 1917 году как повод для отъезда: одним казалось, что новая Россия будет не хуже, а лучше прежней; другие занимались выживанием и ждали пока все «утрясется».
В прошлой части мы коснулись темы массовых высылок из страны представителей научной интеллигенции. Правда, «эпоха пароходов» очень быстро закончилась, новая власть пересмотрела ценность интеллектуального ресурса для советской государственности. Однако, вплоть до конца 1920-х многие ученые без труда оформляли себе заграничные командировки. Одни, как Николай Вавилов, использовали эти поездки исключительно с научной целью. Для других командировка становилась началом эмиграции. И уезжали часто вовсе не из-за принципиальных разногласий с идеологией новой власти, как можно увидеть из примеров ниже.
Зоолог-путешественник
Константин Николаевич Давыдов, родственник знаменитого гусара, родился в 1877 году. Несмотря на дворянское происхождение, семья его к тому времени балансировала на грани бедности и Николай с детства усвоил тот факт, что в жизни ему придется всего добиваться, а не получать «на блюдечке». Впрочем, способности для этого у него были: он без труда поступил учиться на зоолога в Петербургский университет, где его приметил академик Александр Ковалевский и привлек для работы в свою лабораторию.
Ученик оказался способный: накануне Первой мировой войны Давыдов выпустил первую русскую сводку по эмбриологии беспозвоночных, в 1915 году защитил диссертацию по эмбриологии, а в 1918-м стал профессором в только что организованном Пермском университете. Но к тому времени избегать влияния происходящих в стране потрясений было уже невозможно – университет организовали, но обеспечить лаборатории оборудованием нет.
Не имея возможности заниматься научной работой, Давыдов покинул Пермь и вернулся в Петроград, где с головой погрузился в организацию научной экспедиции в Южную Америку (упорству, с которым биолог игнорировал политику и продавливал возможности для науки, можно только восхититься).
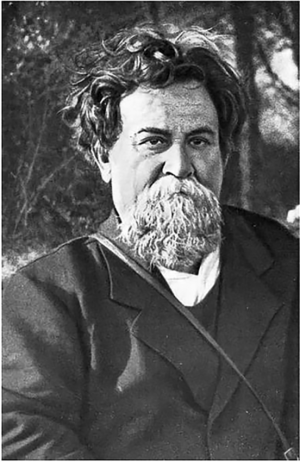 Экспедиция так в итоге не покинула Петербурга, но сам Давыдов в конце 1922 года отправился в командировку в Финляндию и Германию «в целях ознакомления с работами, сделанными за границей в последние годы». К тому времени он уже принял решение, что это будет «билет в один конец». Надо отметить, что Давыдов сохранял свою принципиальную аполитичность, а к отъезду его подтолкнули чисто бытовые проблемы: постоянной работы и дохода у него не было уже несколько лет, а тут он еще созрел (к 45 годам) до того, чтобы жениться.
Экспедиция так в итоге не покинула Петербурга, но сам Давыдов в конце 1922 года отправился в командировку в Финляндию и Германию «в целях ознакомления с работами, сделанными за границей в последние годы». К тому времени он уже принял решение, что это будет «билет в один конец». Надо отметить, что Давыдов сохранял свою принципиальную аполитичность, а к отъезду его подтолкнули чисто бытовые проблемы: постоянной работы и дохода у него не было уже несколько лет, а тут он еще созрел (к 45 годам) до того, чтобы жениться.
Из Германии Давыдов вскоре перебрался в Париж, в институт Пастера, где еще со времен Мечникова была сильная русская диаспора. Ему удалось добиться разрешения на выезд жене, пока сроки командировки не истекли, после чего вопрос о возвращении был окончательно снят.
Наличие коллег-земляков и выход на французском языке труда Давыдова «Руководства по сравнительной анатомии беспозвоночных» обеспечили ему пропуск в научное сообщество Франции (и, соответственно – стабильный заработок и возможность работать на переднем крае мировой науки). В 1949 году Давыдов становится членом-корреспондентом Парижской академии наук. В 1940-х годах ему доверили написать несколько разделов в знаменитом «Руководстве по зоологии» (Traite de zoologie), которые цитируются авторами научных статей по сей день.
А еще перед Константином Николаевичем открылись шикарные возможности в плане организации научных экспедиций по разным уголкам планеты, к которым он давно тяготел (еще студентом немало поездил по России, Европе, выбирался в Африку и на Яву). Теперь же ему удалось несколько лет провести в Французском Индокитае, собрав там богатый материал для дальнейших исследований. «По всем описаниям, Давыдов был одним из последних представителей мира вольных натуралистов XIX века: слегка эксцентричные ученые странники, иногда богатые, чаще безденежные, но всегда независимые», - пишет один из его биографов.
Эмиграция Давыдова, вне сомнения, стала потерей для отечественной науки. Была ли она неизбежной – большой вопрос. За все годы между революцией и отъездом в Германию, он ни разу не был замечен в активном непринятии новой власти. А вот жить без активных занятий любимой наукой (что было, мягко говоря, почти невозможно в условиях гражданской войны и всеобщей разрухи) он не смог.
Кто-то может сказать, что мешало профессору Давыдову вернуться домой спустя несколько лет, когда в СССР во всю заработали научные институты. Увы, но участь «возвращенца» сулила скорее проблемы, чем новые возможности, как это видно из следующего примера.
Тяжела и неказиста доля русского лингвиста
Хоть Николай Дурново и посвятил свою жизнь языковедению, а не лингвистике, у него было немало общего с Константином Давыдовым. Родившись на год раньше, он также происходил из известного дворянского рода (среди его родни – два министра), но отец не оставил ему существенного наследства, предоставив добиваться всего самому. Он также успешно закончил университет (правда Московский) и с головой погрузился в науку. Также успел стать признанным специалистом в своей области – история русского языка к 1917 году. Давыдову известность принесла систематизация эмбриологии беспозвоночных, а Дурново – карта русских диалектов. Он так же принципиально не интересовался политикой и в годы гражданской войны уезжал подальше от столиц, но не в Пермь, а в Саратов. И точно так же вернулся, потому что в провинции в те годы выживать было трудно, а заниматься наукой – практически невозможно.
 Подобно Давыдову, в 1923 году Дурново едет в загранкомандировку в Прагу и принимает решение не возвращаться, причем, по тем же причинам: на родине у него не было работы, что делало проблематичным, собственно, выживание.
Подобно Давыдову, в 1923 году Дурново едет в загранкомандировку в Прагу и принимает решение не возвращаться, причем, по тем же причинам: на родине у него не было работы, что делало проблематичным, собственно, выживание.
А вот дальше начинаются различия. Во-первых, в Праге Дурново не смог так быстро интегрироваться в местное научное сообщество, как Давыдов в Париже, и долгое время перебивался случайными заработками. А во-вторых, и в главных – в СССР остались его жена и трое детей, которым он так и не смог добиться разрешения на выезд. Поэтому, почти пять лет спустя, Николай Дурново принимает решение вернуться на родину.
Поначалу, казалось, все складывается нормально: его пригласили работать в Минск, и даже выбрали академиком только что образованной Белорусской академии наук. Но год спустя вспомнили, что у него дворянское происхождение и царские министры в родственниках. В 1930 году, уволенный и исключенный из Академии, ученый переезжает в Москву, оказавшись снова в той же ситуации, что и перед отъездом в Прагу – без постоянной работы, с семьей, которую надо чем-то кормить (к тому же, из-за тяжелой болезни в годы гражданской войны, его дочь осталась инвалидом).
В общем жили бедно и тесно в коммуналке. В свои пятьдесят с небольшим Дурново, по воспоминаниям современников, выглядел как старик, причем, старик слегка опустившийся. Не удивительно, что и новых статей написать почти не удавалось. Но на этом его невзгоды не кончились.
В ночь на 28 декабря 1933 г. отец и сын Дурново были арестованы. Тогда же арестовали еще несколько человек. Так начиналась московская ветвь «дела славистов» (в Ленинграде несколько языковедов были арестованы еще в сентябре 1933-го). Вскоре следствие заявило, что в стране была создана фашистская организация «Российская национальная партия», которая вела «контрреволюционную деятельность». Деятельность, правда, согласно материалам дела, сводилась к неким «собраниям» на квартире у профессора Сперанского, отправке корреспонденции за рубеж и намерениям свергнуть советскую власть.
Следствие успешно шло к суду, большинство арестованных ученых, не устояв перед напором следователей, подписывало нужные протоколы. Было бы неправдой сказать, что они делали это под пытками, в основном давление оказывалось психологическое: убеждали, что, подписав бумаги, получат условный срок, ну и будут уволены. А упорные поедут лес валить. Дурново принял предложение, сочтя, что ему – и без того безработному и неблагонадежному терять уже нечего – и подписал.
Но в суде их ждал неприятный сюрприз. Условным сроком отделался только Сперанский, за которого ходатайствовал брат – врач кремлевской больницы. Дурново же был приговорён к десяти годам лагерей как «контрреволюционер» и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. А вот его подельник, профессор Афанасий Селищев, так ни в чем и не признавшийся получил только пять лет лагерей. Всего по делу было осуждено больше 70 человек. Вместе с отцом на пять лет в Соловки был отправлен и Андрей Дурново.
О дальнейшей его судьбе скупо говорят два официальных документа. Первый - «Выписка из протокола заседания Особой тройки УНКВД по Ленинградской области от 9 октября 1937 г.», где значится: «Дурново Николая Николаевича расстрелять. Лично принадлежащее имущество конфисковать». И приложенный листок с отметкой о приведении приговора в исполнение 27 октября 1937 г. Второй документ - справка, составленная УАО КГБ при Совете министров Карельской АССР уже в 1964 г., согласно которой: «На лиц, находящихся в заключении в Соловецкой тюрьме или Соловецких ИТЛ, предварительное расследование по делам не производилось, а по агентурным материалам или справке по старому следственному делу выносились на заседание Особой тройки, которая и выносила свое решение». Дурново попал во вторую категорию – ему пересмотрели приговор по старому делу (без дополнительного расследования) и заменили заключение расстрелом.
Страшная судьба ждала и детей Николая Дурново. В 1936 году в результате несчастного случая погибла его дочь-инвалид. В январе 1938 года был расстрелян старший сын Андрей (чей срок подходил к концу, но, как и у отца, приговор был пересмотрен «тройкой»). А через несколько месяцев был арестован и расстрелян и последний сын Евгений (ранее из-за ареста отца и брата он не смог поступить в вуз после школы и работал затейником в одном из столичных парков отдыха). Осталась на свободе только жена, умершая от водянки в годы войны.
Позже, при Брежневе, отец и сыновья Дурново были полностью реабилитированы. А вот у их палачей судьба сложилась совсем иначе. Следствие по «делу славистов» возглавлял заместитель начальника Секретно-политического отдела ОГПУ Генрих Люшков. Через несколько лет он сбежал к японцам, прихватив с собой секретную документацию и был расстрелян после разгрома Японии в 1945 году. Его предательство столь очевидно, что вопрос о реабилитации даже не поднимался. Чекисты Апетер и Раевский, возглавлявшие «особую тройку», приговорившую Николая Дурново к расстрелу (как и несколько сотен других заключенных Соловецких лагерей), сами были арестованы и расстреляны как «враги народа» всего через несколько месяцев.
Понятно, что вернуть с того света семью Дурново это уже не смогло. Но Дурново «вернулся» в отечественную науку в 1969 году, когда был издан его учебник истории русского языка, написанный еще в Праге. И уже в конце прошлого века многие его работы были переизданы и используются специалистами. А его карта русских диалектов (правда, без указания авторства) использовалась языковедами на протяжении всего советского и постсоветского периодов нашей истории.
Как видно из истории с Дурново, после некоторой «оттепели» во второй половине 1920-х годов, в следующем десятилетии над многими учеными в СССР снова стали сгущаться тучи (причем, по причинам далеким от области научных дискуссий). Экономист Кондратьев, генетик Вавилов, авиаконструкторы Туполев и Бартини, историк Платонов… Список выдающихся ученых, объявленных «врагами народа», а спустя годы оправданных (но в случае со многими – увы, только посмертно) получится солидный. Не удивительно, что для ряда из них эмиграция стала рассматриваться как способ спасения жизни (а уже не улучшения ее качества). Вот только, «окно возможностей» для эмиграции заметно сузилось, хоть и не закрылось совсем. Но об этом в следующий раз.
Сергей Исаев
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

